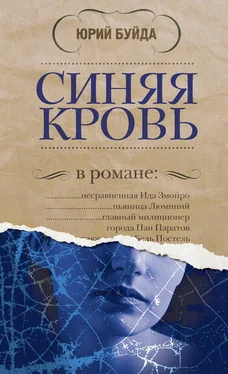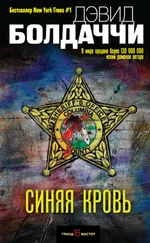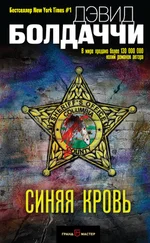С годами лес все дальше отступал от озера, а среди деревьев все чаще попадались стихийные мусорные свалки. Сначала люди стали выбрасывать железные кровати, патефоны и абажуры, потом – швейные машинки с ножным приводом, ламповые телевизоры и керогазы, наконец дошла очередь до отслуживших холодильников, мопедов и грампластинок. Ну и, конечно, покрышки, рваная обувь, битые молью старушечьи плюшевые пальто, километры магнитофонных пленок, чугуны, велосипеды, дырявые кастрюли и подойники, детские коляски, конская сбруя, рваные гармошки и даже красные знамена, которыми награждали победителей социалистического соревнования…
Ну а в последние годы, когда люди бросились строить, перестраивать и ремонтировать дома, мусор в лес стали вывозить грузовиками.
И вот теперь нам с Идой пришлось лавировать среди гор битого кирпича и кафеля, унитазов и ванн, ржавых водопроводных труб и покореженных газовых плит.
Когда мы добрались наконец до Хилой церкви, нам попросту не удалось найти места, где можно было бы присесть, перевести дух, выпить чаю: огромная лесная поляна была превращена в сплошную свалку – от края до края.
– Ну что ж, – сказала Ида, – значит, так тому и быть.
Она произнесла эти слова спокойным голосом, но сердце у меня сжалось.
Ида стояла среди гор мусора в своем черном пальто до пят и казалась никому не нужной, одинокой, бессмысленной деталью безжизненного пейзажа… обугленным деревом…
Больше мы никогда туда не ходили.
В Чудове никто, даже старики, не помнил об этой сельской церквушке, о ссыльном священнике и могилах его предков, словно и не было ничего этого – ни храма, ни людей, ни жизни, ни смерти. Помню, я заговорил о русском беспамятстве, но Ида меня остановила:
– Это не беспамятство, Алеша, это боль. А боль молчалива. Только так, наверное, и удается выжить.
Я был не согласен, но спорить не стал.
К тому времени у Иды почти не осталось друзей. Она похоронила Кабо, а вскоре и бедолагу Устного, однорукого мужа Лошадки, который хоть и пил запоем, но дожил до преклонных лет. Иногда к ней заходила Маняша Однобрюхова, которая развелась с шестым или седьмым мужем, купила инвалидность, вышла на пенсию, стала сдавать свои московские квартиры жильцам, а сама поселилась в Чудове, в родительском доме.
По окончании университета я стал учителем русского языка и литературы в чудовской школе, трижды женился, дважды развелся. С Идой я виделся довольно редко, но нам никогда не приходилось возобновлять отношения: мы по-прежнему понимали друг друга с полувзгляда и с полуслова. Ее жизнь была частью моей. Между нами была та крайняя степень близости, когда каждый считает себя собственником прошлого друга. На такую близость люди решаются лишь однажды, раз в жизни, и когда я впервые услышал о том, что Алик Холупьев стал завсегдатаем Африки, то только пожал плечами.
«В моей жизни слишком много прошлого, чтобы позволить ему захватить еще и будущее», – таким вот замысловатым образом выразилась Ида, отвечая на мой вопрос об Алике.
Похоже, Алик хотел с нею подружиться, но она держала его на дистанции.
Однако узнал я об этом много позже – уже после смерти Иды, когда начальник милиции Пан Паратов – мы были соседями, приятелями, однокашниками – дал мне почитать тетради Алика, и сын генерала Холупьева вышел из тени.
Я знал, что он был второстепенным персонажем в жизни Иды, но и подумать не мог, что этот человек мог сыграть такую важную роль в ее смерти.
Разумеется, потом, после всего того, что случилось в Чудове тогда, в канун Пасхи, многие заговорили о том, что Алик с самого начала вызывал у них подозрение, недобрые предчувствия, и так далее, и тому подобное. Но на самом деле на него никто никогда не обращал внимания. При виде хромого калеки люди смущенно отводили глаза и заранее прощали ему любые странности. И только дети кричали ему вслед: «Рупь Двадцать! Рупь Двадцать!» – и тотчас бросались врассыпную, стоило Алику остановиться и оглянуться – у него был взгляд измученного животного, а вовсе не мрачного негодяя, таящего злые мысли.
Как ни старался Алик держаться в тени, выглядеть понеприметнее, поменьше, дети не оставляли его в покое. Но никто никогда не слышал от него ни одного бранного слова в адрес ребятни, которая скакала за ним толпой, кривлялась и вопила: «Рупь Двадцать! Рупь Двадцать!» Он был идеальной жертвой и идеальным гражданином: ни убежать, ни догнать…
Его мать спивалась, а отчим слеп. Алик числился лаборантом в фотоателье, хотя ему приходилось выполнять за Арсения всю работу. Фото на документы, свадьбы, похороны, юбилеи, а по воскресеньям библиотека – такой была его жизнь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу