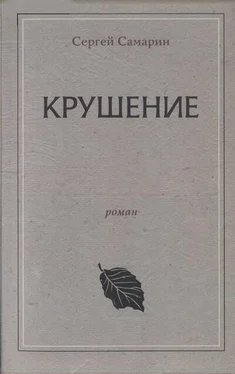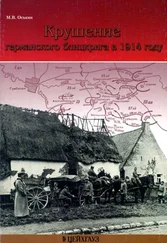На улице зажгли фонари; у главного входа слышны возгласы: значит, все уже разъезжаются; праздничная атмосфера, наполнявшая стены Крепости, рассеивается и, смешавшись с флёром таинственности, её материя становится более изысканной и помпезной. Внутри тоже беспорядочная суета, хотя, казалось бы, сколько строгого напряжения было в первых танцах; с парадной лестницы доносятся шаги и неразборчивые голоса. Какая-то компания устремляется в темноту коридора, где сразу же загорается свет и, проникнув в щель под дверью, стелется по потёртому паркету, озаряя маленький класс; это малыши, они вскоре уходят, что-то утащив с собой, и коридор остаётся во власти ночи. Кто-то ещё пробирается на ощупь и раздражённо пытается сорвать замок, висящий на задвижке; в темноте растворяется воркующее персидское ругательство. Вот и девичьи голоса, но вдалеке, — наверное, на парадной лестнице — разбиваются на тонкие осколки, подобные клочкам водорослей, которые блеснут на миг в набежавшей волне и поблекнут, оставшись на песке. И вдруг — гортанный голос Мероэ, который они сначала узнают по внезапной тяжести в руках и ногах, и в груди, где долгим и непрерывным эхом звучит музыка вопроса «неужели?», который она обронила, проходя мимо запертой двери, и он тянется шлейфом и медленно тает, высвобождая по одному слабеющие обертона, смешанные с затихающим звуком шагов. С кем она говорила? Кто исхитрился увести её наверх, а она при этом ничуть не насторожилась, не заволновалась ни в пустынном коридоре, где они даже не подумали включить свет, ни в классной комнате напротив той, откуда их подслушивают двое друзей, и почему, повернув ключ в замке, они даже не заметили свет в замочной скважине, к которой, смешивая дыхания, поочерёдно льнут Серестий и Алькандр? До них едва доносится неразборчивый шёпот, в котором всё же различимо гортанное «нет, только не это!», и в зияющую неопределённость её слов мгновенно устремляется вихрь образов, обрывочных воображаемых картин; слова растушёвываются звучащим в ответ мужским голосом и смехом, и теперь уже назойливым уханьем музыки. Алькандр так страстно ждал этого вечера в совершенном и столь невинном единстве со своим товарищем, что ни на секунду не задумывался, смогут ли они действительно поделить Мероэ, как разделяют связывающую их дружбу; он чувствует, как необъятная ненависть скручивает его, сушит ему горло — слишком явственная, чтобы он довольствовался столь неопределённой жертвой, как незримый соперник напротив.
— Отныне каждый за себя, барончик, — произносит он, не размыкая губ.
И в свете фонаря, проникающем через незакрытое окно, в тот момент, когда, сжав зубы, он отворачивается от замочной скважины и в упор глядит на Серестия, ему видно, как тот точно так же сжимает зубы, и гнев его словно отражается в зеркале.
— В лазарете есть зеркало, — чётко слышен голос Гиаса, — я тебя отведу.
Они могли бы подраться — молча, как тогда, в саду, где растёт клубника, но яростно, не разними их эта фраза. Мероэ была с братом; они уходят, почти не таясь, как и пришли. Об этой Мероэ из сумрака, Мероэ в калейдоскопе платьев и мундиров Империи, о недоступной и настоящей Мероэ может мечтать только один. Каждый за себя, барончик.
12
Мероэ одна на двоих, но уже не та прозрачная, изначально ирреальная, чей смутный образ возникал между силовых линий поля, полюсами которого были Серестий и Алькандр; Мероэ, напичканная влажной землёй, освещённая всеми огнями и позаимствовавшая у всех теней вещественный объём, Мероэ, раздвоившаяся на фигуры-близнецы, каждая из которых отвергает и стремится вычеркнуть другую, Мероэ настоящая, которая говорит собственным голосом, также вычёркивает ставший ненужным персонаж Серестия, сводя его сущность к чистой симметрии, и никто не удивится, если скоро, предположительно во время плавания на лодке, его не станет, зато потом он возродится — правдоподобия ради — после нескольких далёких и пока что непредсказуемых поворотов сюжета.
13
Бывшие солдаты Империи — портные, повара, отчасти колдуны и распространители небылиц и таинственных историй — пели во всех деревнях эту монотонную песнь, услышанную в праздности биваков на поросших травой рубежах страны.
Три чёрных лебедя поднялись из камышей и смешанных с кровью топей Быстрова болота; тая в пороховом дыму и миазмах стоячих вод, души героев медленно улетучивались, поднимаясь к синему небу. Накануне старый маршал осматривал местность, открытую всем ветрам, с пригорка, изрешечённого кротовыми норами; план города и ручья был разложен на спине согнувшегося молодого капрала; телескопические очки поворачивались на все четыре стороны света, лошади били копытом, ветер срывал треуголки. Начальник штаба рисовал на плане длинные изогнутые стрелки, до победы было рукой подать; пленные, когда их пощекотали калёным железом, не стали скрывать, что силы врага малочисленны и припасы кончаются. Склонившись над своим невысоким штативом, старик ничего не сказал; он втянул ноздрями воздух, выпустил несколько облаков из пеньковой трубки; когда он выпрямился, указывая трубкой на восток, все разговоры прекратились; трое возлюбленных императрицы, спорившие о том, какими наступательными колоннами каждый из них будет командовать, посмотрели друг на друга, словно петухи, которых разняли в разгар боя; начальник штаба выпустил карту, которую разрисовывал, и она улетела, а капрал-пюпитр ощутил пробежавшую по его спине лёгкую волну, когда, продолжая махать трубкой на восток, старый маршал гнусаво прокричал:
Читать дальше