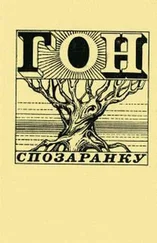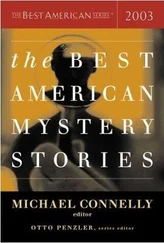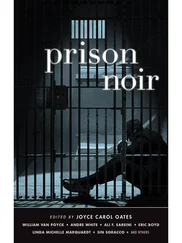В долгие, хмурые зимние дни, одиноко сидя дома, Клара надумала: она вырастит ребенка Лаури таким человеком, для которого все на свете будет полно смысла, он будет управлять не только отдельными редкими минутами своей жизни, но всей своей жизнью – и не только своей, но и жизнью других людей.
Не вполне это сознавая, они разыгрывали каждый свою роль: Ревир – роль виноватого, ибо он верил, что это от него у Клары будет ребенок; а она – роль жертвы, которой прибавилось кротости и мягкости как раз потому, что она – жертва. Она сказала ему, как ей страшно рожать, рассказала, как всякий раз мучилась родами ее мать, а последний ребенок ее убил… это воспоминание смешалось с другим: пока мать истекала кровью, в соседней лачуге мужчины играли в карты. Рассказывая, Клара заплакала и сама поразилась, что ей так горько об этом вспоминать. Должно быть, несмотря ни на что, она любила мать, хотя, в сущности, долгие годы росла без матери… и она рыдала так, что разламывалась голова: если бы поднять мать из могилы и отдать ей все подарки, которыми осыпает ее Ревир! Почему, почему у матери никогда ничего не было? Ревир обнял ее, укачивал, как маленькую, утешал. Она ждала ребенка, значит, принадлежала ему, Ревиру, а он, как всякий упрямый, сильный мужчина, который не знает неудач, любил то, что ему принадлежало. Он говорил, что «искупит свою вину», а Клара слушала, на глазах у нее еще не высохли слезы, она принимала его мольбы о прощении, его ласки и при этом думала о Лаури – может быть, когда-нибудь он ей напишет, но вдруг кто-нибудь на почте просто из подлости возьмет да и разорвет письмо? В какую-то минуту, когда Ревир сокрушался, что заставляет ее «страдать», она почувствовала себя виноватой и сказала:
– Но я уже люблю малыша. Дождаться не могу, когда же он наконец родится. Я люблю маленьких.
И от этих слов разом все вернулось, даже радость их любви с Лаури, хоть любовь эта длилась всего лишь несколько дней.
– Только я не лягу ни в какую больницу, – прибавила Клара. – Я хочу родить прямо здесь, дома.
– Там посмотрим, – сказал Ревир.
– Нет, я хочу остаться дома. Никуда я не поеду.
– Посмотрим, – повторил Ревир.
Она без памяти любила свой дом. Из прежней комнатенки она перевезла кое-какие вещи для спальни – для первой своей спальни, для первой настоящей спальни, которую она увидела в жизни. У нее теперь есть кровать, и комод из хорошего полированного дерева, и к нему приделано высокое зеркало – таких зеркал она прежде и не видала, и стенной шкаф только для ее платьев (впрочем, платьев у нее не так уж много), и подушечка на стуле, и возле кровати столик, на который Ревир кладет ручные часы, когда остается у нее. На стене напротив кровати – картинка: закат, горящий оранжевыми и красными, точно боль, красками, как попало отраженными в воде, и на фоне заката голые черные деревья. Клара сама ее выбрала, и Ревир никогда слова про нее не сказал. Стоило Кларе посидеть подольше, глядя на эту картинку, и ее одолевали странные, печальные мысли, она даже плакала и сама не знала, почему плачет. Еще ни разу в жизни она не удосужилась полюбоваться настоящим закатом; иногда по радио какой-нибудь слащавый тенор гнусаво пел о «стране той далекой, за гранью заката», и от этого тоже на глаза навертывались слезы, но все равно до того, чтоб поглядеть настоящий закат, дело не дошло. Картины и музыка затем и существуют, чтобы все прикрашивать, думала Клара, потому-то от заката на картинке прошибает слеза, а в настоящем закате нет никакого смысла. А как же иначе? Даже картинка на коробке конфет, которую принес ей Ревир, – зима и домик среди густых зеленых елок – говорит ей куда больше, чем ее настоящий дом, который она так часто видит с дороги или с лужайки. Нет, ее могли взять за душу вот такие картинки или песенки, но не тот подлинный мир, что ее окружал: просто он тут, он существует, но ничуть ее не волнует и не занимает.
За дверью ее спальни начинался коридор, он вел сперва в просторную старую кухню, уже окрашенную заново в канареечно-желтый цвет, – там вечно гуляли сквозняки, была раковина и кран, который Ревир собирался починить; дальше – гостиная с высокими сумрачными окнами, даже самое яркое солнце не могло их оживить; и наконец коридор упирался в еще одну комнату, которую так и оставили пустовать. В трех жилых комнатах были печи. Был в доме и чердак, но никто не потрудился привести его в порядок; там стояли ящики со всяким хламом: плесневело отсыревшее ветхое тряпье, хранилась серебряная канитель и хрупкие елочные украшения, наполовину перебитые, громоздилась уродливая старая мебель. Клара не раз все это пересматривала. Прежние владельцы были ей ближе всего, когда она перебирала елочные украшения, брала в руки стеклянные шарики и мохнатые, чуть колючие гирлянды «дождя», от которых на пальцах оставались серебряные пятнышки, и думала – до чего же несправедливо: старикам эти вещи были так милы, а кончилось тем, что все попало к ней, Кларе, к совсем чужому человеку. Потом она снова аккуратно укладывала все на место, будто ждала, что хозяева вернутся и потребуют свое имущество. Так она сидела одна на чердаке, при веселом свете солнца или в угрюмом сумраке пасмурного дня, и пыталась сообразить: придет нынче вечером Ревир или не придет? Иногда никак не удавалось вспомнить, обещал ли он прийти.
Читать дальше