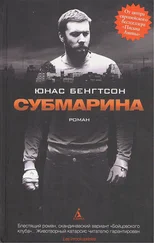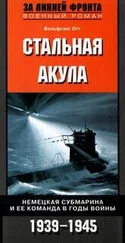— Это ты кого спрашиваешь? — интересуюсь я.
Она снимает наушники.
— А ты как думаешь?
Смотрю на нее. Ее уши стали ярко-малиновыми. Невольно вспоминаю те времена, когда мы с Чипсом рассуждали, каково это, заняться сексом с жиртресткой. Чипс тогда залез в штаны и стал издавать пукающие и булькающие звуки крайней плотью.
Она склоняется ко мне.
— Ты их видишь, а они тебя нет. Ты их слышишь, а они тебя нет.
В пьесе еврейские актеры начинают выбирать костюмы для своего представления. Предприимчивый еврей Вайскопф собрал одежду погибших на войне. Он говорит, что кровь отстирали, а дырки от пуль зашили. Мне нравится характер Вайскопфа. Он старается извлечь максимум пользы, даже когда дела хуже некуда.
Зоуи бросает наушники на колени и кладет руки мне на бедра.
— Стесняешься?
Ее руки движутся вверх по моим бедрам. Я и вправду стесняюсь, ведь даже Шэрон Стоун в роли Кэтрин Трамелл в «Основном инстинкте» действовала более деликатно.
— Я не стесняюсь, — вру я. — Это действительно потрясающее место для секса.
Чем больше она липнет ко мне, тем отчетливее я вспоминаю картину: она в школьной столовой со ртом, набитым котлетами из индейки, и, несмотря на это, заглатывает еще и апельсиновый сок.
— О чем ты думаешь? — спрашивает она и высовывает язык, облизывая нижнюю губу.
В этот момент в пьесе Киттель объявляет, что фюрер не допустит роста населения еврейской расы и потому евреям можно иметь не более двух детей. Шеф еврейской полиции пересчитывает численность семей по головам палкой. Отец, мать, ребенок, ребенок. Третьего ребенка отсылают за сцену, то есть убивают.
— О логистике, — отвечаю я.
Я не взял презервативы. Придется воспользоваться ритмическим методом.
— О логистике? — повторяет она и наклоняется ко мне. Кинув взгляд на сцену, где выжившие члены семей допевают депрессивную песню, она тянется мимо меня и нажимает волшебную кнопку. Сцена погружается в темноту; появляется рассказчик, освещенный одним лишь торшером и уснувший в кресле. Один из зрителей пытается аплодировать, но никто не подхватывает его хлопки.
Зоуи дергает за рычажок и опускает кресло; раздается звук выпускаемого воздуха.
Рабочие сцены убирают декорации; рассказчик похрапывает. Двое мужчин поднимают чемодан. Зоуи подносит микрофон к губам. Опершись руками о мои бедра, она наклоняется к моей: промежности и произносит:
— У тебя есть тридцать секунд.
Мое кресло чуть откатывается назад. Она придвигает меня обратно, схватившись за петельки для ремня. Ремней у меня сроду не было. Приложив один наушник к уху, Зоуи слушает. Поднимает указательный палец.
— Когда я скажу «Пуск», ты должен нажать «Пуск», договорились?
— Угу, — отвечаю я.
Она даже не видит сцену.
— Пуск, — произносит она.
Я тыкаю резиновый бугорок пальцем.
Мягкий свет окутывает трех девчонок из гетто; они стоят около детской коляски.
— Еще раз, — командует Зоуи.
Нажимаю еще раз. Рассказчик просыпается и оказывается в лужице коричневого света, в которой плавают пылинки.
— У нас три минуты до моего следующего выхода. — Нагнувшись под мое кресло, она нажимает рычаг. Кресло с шипением опускается, и сцена исчезает из поля моего зрения. Видимо, она спланировала все это до мелочей. — Подержи-ка, — просит она и надевает наушники мне на голову.
Она встает, расстегивает кофту, и та падает с плеч.
Из наушников доносится диалог со сцены, но кто говорит, не видно.
— У меня голова болит.
— А ты окуни ее в воду несколько раз подряд. Головная боль больше никогда тебя не побеспокоит.
На футболке у Зоуи надпись «Прозак», стилизованная под логотип стирального порошка.
— Несколько раз?
— Да! Несколько раз подряд: окунаешь голову три раза, вытаскиваешь два.
Когда она снимает футболку, та застревает, потому что у Зоуи большая голова. Пользуюсь моментом и хорошенько рассматриваю ее живот. Жирок еще есть, складки врезаются в пояс, но я готов признать, что, возможно, она все же привлекательна. Зоуи стягивает футболку через голову и невозмутимо бросает ее на пол. У нее большие груди, они вываливаются из лифчика. В голубом свете ее кожа излучает флюоресцентное сияние.
Сняв с меня наушники, она вешает их себе на шею и поправляет микрофон, который торчит у краешка ее рта, как голодная муха. Она говорит очень отчетливо, точно читает телесуфлер.
— Ты знал, что нужна особая лицензия, чтобы показывать в театре обнаженную натуру?
Читать дальше
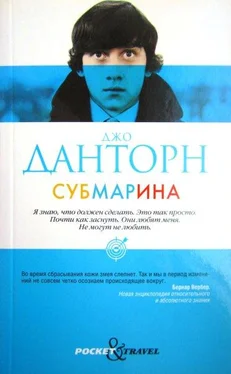

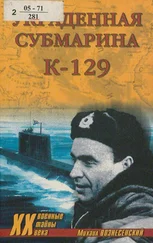
![Эрик Рассел - Подарок дядюшки Джо [=Подарок от Джо] (ёфицировано)](/books/65161/erik-rassel-podarok-dyadyushki-dzho-podarok-ot-dzho-thumb.webp)