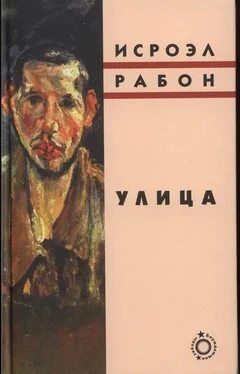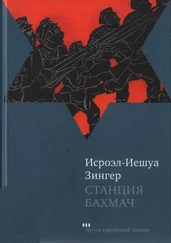Боже мой, кто это мог быть? Человек! Человек? Что же он прыгает так, что едва удается увидеть его тень?
Темно. Страшно и темно. Часы на городской башне пробили два: «бим-бом» эхом разнеслось по темному трехъярусному залу. Черная тощая тень исчезла в правом углу. Задремать снова теперь не получалось. Страх совсем разбудил меня. Голова разламывалась, дыхание участилось.
Кто бы это мог быть? Кто? Человек? Что же он прыгает так безумно, так дико? Что он тут делает за полночь?
Стало тихо, ужасно тихо. Ни шороха, ни шуршания. Плотная тьма растеклась во все стороны и окутала меня. Страх объял меня. Я пригнул голову и стал вслушиваться в тишину. Да, я слышал, я отчетливо слышал.
Гук-гак — это стучит человеческое сердце.
Мой страх рос. Чье сердце стучит? Может, это мое собственное сердце? Как я могу слышать стук чужого сердца, если ни вблизи, ни вдали я не чувствую присутствия чужака? Нет, это не мое сердце! Это голос чужого сердца. Я резко вскочил с моей постели на стульях.
Я убегу!
Но тут я вспомнил — двери закрыты, и, сломленный, остался лежать. В висках у меня застучало сильней, и страх проник во все закоулки души. Вдруг — не знаю от чего — меня охватило предчувствие…
Ночью начнется пожар!
Беги! Спасайся! Сам дьявол дурачит тебя в запертом цирке, чтобы ты погиб среди языков пламени, превратился в угли! Спасайся! Цирк загорится!
В голове оглушительно шумело. Я слышал звоны, вопли и крики ужаса. Я слышал, как заламывают руки, как трубят трубы. Перед глазами колыхались красные огненные языки. Пожар! Цирк горит.
Вдруг все исчезло. Снова стало тихо, тихо как прежде.
Ха-ха-ха! — я вдруг расхохотался.
Кошмары исчезли. Я вздохнул с облегчением и снова растянулся во весь рост на моей постели из трех стульев. Сам себя дурачу! Боже мой, как по-детски я себя вел! Суеверно и пугливо! Что за глупость с чужаком я выдумал? Какой пожар? Глупости! Безумие! Воображение! Я был зол на самого себя.
Спи, спи, одинокий человек! Тебе мало того, что у тебя есть постель! Будь доволен тем, что ты не лежишь на улице.
Я постарался заснуть. Но не мог. Я сострадал сам себе из-за того, что сам себя разбранил. Почему же я сам себя так часто браню? У меня на глазах выступили слезы, слезы сочувствия к самому себе. За что я себя браню?
— Эх, брат, — мысленно сказал я себе, — не век же так будет! Стыдно, честное слово, стыдно проливать слезы! Ты не хуже других, ни на волос не хуже! Разве ты не готов взяться за любую работу? За что же тебе себя ругать? Прошу прощения, брат, прошу прощения! Будь благословен за свои страдания!
Мне становится легче. Я начинаю засыпать. Часы на городской башне бьют половину третьего. Я думаю: я сплю или нет? Нет, только дремлю. Глаза закрыты. По всему телу тяжело разливается свинцовая усталость. Мне уже не холодно. Старая верная шинель хорошо греет. Я ею доволен и, думая о ней, начинаю разводить странную философию: представим себе, что у меня есть деньги, много денег. Я в состоянии купить новое пальто с двумя рядами пуговиц из слоновой кости. Очевидно, тогда бы я выкинул драную солдатскую шинель на свалку — кому бы она еще могла пригодиться. Тут нет сомнений. Я бы ее выбросил. Ту самую шинель, которая сейчас нежит меня, согревает мои кости. Так верно она мне еще никогда не служила. Боже, как хорошо и справедливо ты сотворил свой мир! Нет ничего, что было бы сотворено зазря.
Голова у меня разламывалась. Тело горело. У меня был жар. Мысли летали в голове, как тлеющие искры. Быстро проносились краткие воспоминания обо всех опасностях, пережитых мной на поле боя. Кровавые картины колыхались, сплетались и в конце концов всплыли из моей памяти.
Неожиданно перед моими глазами предстало одно из моих самых кровавых военных переживаний, окутанное страшной пеленой подлинных ощущений.
13
Два месяца мы пролежали на польско-большевистском фронте в Белоруссии; закопались с головы до ног в твердый, смерзшийся снег; лежали в окопах, дремали от усталости, неподвижности и безделья; души погибших восходили в небо, в воздух, как всходило и заходило солнце за белые, бледные, выкованные из железа и снега поля и равнины печальной Белоруссии. Среди всепоглощающей скуки и пустоты в глазах рябило от ворон, которые стояли над нами, потому что стояли на земле, и шарили и ковырялись своими тонкими ножками и черными клювами в отбросах, которые каждый выкидывал из своего окопа — и чего-то ждали, ждали, не отходя от нас…
У каждого солдата была своя ворона — свой страж. Странно! Они иногда взмахивали в холодном воздухе черными крыльями, что-то каркали в белизну заснеженных полей и улетали прочь, но вскоре возвращались и снова становились на то же самое место, что и прежде, и ждали, ждали!
Читать дальше