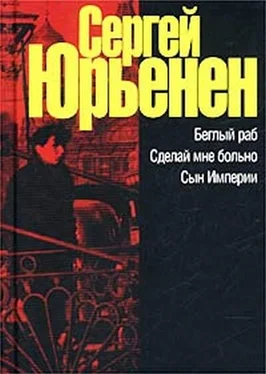Крик ужаса вырвался из их груди, а потом как молнией ударило! Со страшным грохотом рухнуло черное зеркало, и тысячи сверкающих кусков разбежались по паркету — во все стороны сразу. Алюминиевый ящичек выпрыгнул у меня из-под ног и раскрылся от удара о паркет. А следом, ладонями вперед, выпал я. И тут же был удушен обвалом платьев. Я съежился под этим старым тряпьем, изо всех сил прижимая к животу остатки ящичка, и был ни жив ни мертв — в ожидании Божьей кары из правого угла этой комнаты.
Меня откопали. Рывком поставили на ноги. Сорвали летный шлем, и глаза сами зажмурились от радужного света.
— Отца! — взвизгнул дедушка. — Ты отца родного распылил!
И упал на колени.
После мертвой паузы кто-то истерически захохотал, и под пьяный этот хохот кто-то суеверный встревоженным шепотом осведомился о том, кто именно смотрелся в зеркало последним, и ему сердито отвечали, что да все мы, все! Тогда как дедушка ползал на четвереньках, пятная паркет кровавыми отпечатками своих ладоней, и, двигая лопатками худыми, выгребал из-под отступающих с хрустом хромовых сапог и к себе сгребал, к себе, к себе! Сверкающий прах.
Урну с пеплом своего предшественника гвардии капитан Гусаров в канун своей первой брачной ночи крепко-накрепко запаял паяльником.
И ничего плохого не случилось, напротив: спустя неделю по облигациям послевоенного займа на восстановление нашей страны дед выиграл пять тысяч рублей. Далеко за Невой, на Больше-Охтинском кладбище (в церкви которой я, в полтора месяца вывезенный вместе с урной из Советской зоны оккупации Германии, был нелегально крещен), был куплен фамильный надел. Отца похоронили у правого края — с тем, чтобы осталось место для дедушки с бабушкой. Мне места не осталось — когда от меня будет пшик. И это укрепило меня в подозрении, что в отличие от прочих я не умру, а буду всегда, как бы ни огорчала меня Августа.
На могиле поставили раковину и не звездочку, положенную офицеру, а православный крест, сработанный в кладбищенской мастерской из бетонного раствора, куда вмазали затем светло-серый битый камень. Участок обнесли сеткой ограды. Сетку, раковину и толщину креста посеребрили алюминиевой краской. В мае в раковину насадили анютиных глазок и стали дальше ездить на могилу, как на пригородный огородик, — возделывать по воскресеньям.
Красная армия всех сильней
Они спят втроем. Мама у стенки. Гусаров с краю, а он, Александр, у них в изголовье. Поперек.
Трещит будильник, и глаза открываются сами.
Августа спит на раскладушке, задвигаемой под стол. Александр слезает на пол и обнажает ноги Августы. Она вылазит из-под стола, берет в охапку школьную одежду и раздувшуюся от учебников брезентовую полевую сумку, Гусаровым подаренную, — уходит на кухню. Александр за ней. На нем обязанность — закрывать на крюк после Августы дверь черного хода. Потом Александр допивает остатки ее утреннего чая из большой алюминиевой кружки. Идет по коридору, поднимает руку и дергает за ручку. Дверь заперта. Большая Комната еще спит. Он стучится — не открывают. Колотится об дверь лопатками — шипят сердито, но не встают впустить. Из замочной скважины сквозит нехорошим душком.
— Спите и спите! — лягает он дверь. — А потом у вас смертью изо рта пахнет!.. Вставайте, не то умрете!
Но они не хотят жить. Отжившие люди — верно о них говорят.
Александр возвращается в Маленькую Комнату.
Гусаров спит тоже. Александр придвигает стул к матрасу, стоящему на кирпичах. Разглаживает Гусарову грозную морщину на переносице. Завинчивает ему усы.
— Хватит спать, Гусаров!
— Для кого Гусаров, а для тебя папа, — отвечает он, не открывая глаз.
— Мой папа смертью смерть попрал. Вставай, в Академию опоздаешь!
— Солдат спит, служба идет.
— Ты же офицер?
— Один черт, — сквозь сон отвечает Гусаров.
Щеки у него уже синие. Александр отходит. На подоконнике лежит бритва Гусарова. Опасная. Он остро ощущает опасность бритвы, раскрывая ее. Он выдыхает на бритву. Затуманенное лезвие медленно проясняется. Ремень, о который Гусаров точит бритву, толстый и прочный. Еще у Гусарова есть большая жестяная коробка из-под американского табака, который ему в Вене подарил американский летчик. Когда американцы еще были хорошие. Александр открывает коробку. Он перебирает вещи спящего Гусарова. Латунную дощечку с прорезью — Трафарет. Чтобы, не пачкая мундира и шинели, полировать зубным порошком пуговицы с сияющими пятиугольными звездами армии. Кусок позеленелого войлока. Бархотку — для наведения на пуговицы армии зеркальности. Потом Александр поворачивается на стуле к столу, расстегивает большой, до серых пятен вытершийся портфель свиной кожи. Из портфеля медленно выползает коробка карандашей «ТАКТИКА». Большой и толстый красный карандаш «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ». Еще один Трафарет — этот из мутно-прозрачного целлулоида, сквозь разнообразно-узорчатые прорези которого остро отточенным карандашом можно так четко нарисовать любой контур. Бойца. Орудие. Танк. Самолет. Стрелу Решающего Удара — хищную, как акула. Еще выползают: трофейная немецкая готовальня, сложенные оперативные карты — такие огромные, что в их Маленькой Комнате полностью их и развернуть нельзя. И книга толстая. «И. В. Сталин о военном искусстве». Без картинок… Александр еще раз поворачивается на стуле — лицом к его спинке. На ней висит китель Гусарова с чистым белым подворотничком, который он собственноручно пришил с вечера. Через золотое погонное плечо кителя перекинута портупея, которой, уходя в Академию, опоясывается Гусаров, — сложное, как упряжь конская, переплетение толстых и тонких ремней, пахучих, дурманящих, простроченных узором, с дырочками, пряжками червонного золота и серебряными застежками и держалками для шашки, которую выдают на время Ноябрьского парада, а также для кобуры с лучшим в мире пистолетом системы «Макаров», который снова вернется к гвардии капитану Гусарову, когда он закончит свою Бронетанковую Академию и вернется в строй. Боевым офицером лучшей в мире армии, о которой недаром поет радио, что
Читать дальше