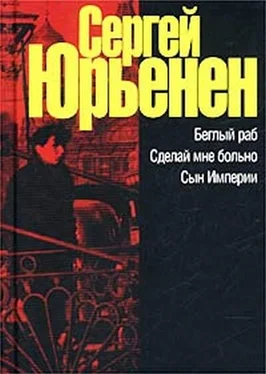— Смотри только, — предупреждает Константин Палыч, — дома с огнем не шали.
— Я не шалю, — говорю я неправду.
— Вот и молодец. Отец-мать как? Живы-здоровы?
— Мать здорова, а отец, — говорю я с гордостью, — смертью смерть попрал.
— Так, значит? Что ж! Лично я твоему папе по-хорошему завидую…
— Константин Палыч!
— Ну.
— Когда пописать надо, кто тебе штаны расстегивает?
— Ишь! — усмехается он. — Много будешь знать — скоро состаришься. Ты вот что… Пошарь-ка вот в этом кармане.
Я залезаю в другой карман его стеганки. Вынимаю руку — на ладони у меня подшипник. Тяжеленький такой. До отказа набит шариками. Зеркальный, новенький, он предъявляет мне все небо, и шарики, повспыхивая, текут-переливаются в этом кольце. Я смотрю себе в ладонь.
— Владей, сынок! — говорит Константин Палыч. — И отваливай давай — бабушка вон заждалась. Ей, кстати, наше неизменное!..
Когда Августа уходит в школу, мама берет с ее тарелки недоеденную макаронину и кладет на пол, у дырки в стене. Плинтусов в нашей комнате нет, их сожгли в Блокаду.
Мы влезаем на наш матрас, стоящий на кирпичах, забиваемся в угол и замираем, обнявшись. Мы смотрим на дырку. Ждем, когда из нее вынырнет мышонок Тим — длиннохвостый и с умными бусинками красных глаз. Не одни мы его дожидаемся: из коридора о нашу дверь, урча, ласкается бабушкин сибирский кот Кузьма Второй (Первого в Блокаду у бабушки похитила и съела соседка по лестничной клетке, старуха Благонравова). Дверь надежно заперта на задвижку, но мышонок все равно не приходит. Чует Кузьму.
— Ладно, — говорит мама. — Белье развесить надо, а я лежу тут с тобой, как принцесса!
Она встает.
— Хочу с тобой! — говорю я.
— После того, что ты натворил? Лежи уж…
Она надевает на шею ожерелье из деревянных прищепок и уходит на чердак. На чердаке я уже был — лучше не вспоминать. Был и в подвале. Мама взяла меня, когда пошла за дровами. Подвал был сырой, со страшными тенями, и там я потерялся. На свет моего огарка сошлись крысы, которым было так голодно, что, пища, толкаясь и кусая друг дружку, они стали грызть бабушкины войлочные валенки. Эти валенки мне были по одно место, и они не сгибались, когда я передвигал ноги. Поэтому я не передвигал, а стоял, дожидаясь, когда меня найдут, и смотрел на крыс. Огарок оплывал на кулак. Я отлеплял горячие прозрачные лепешки и бросал их крысам, которые, отвлекаясь от валенок, бросались на стеарин, как голуби на крошки. Мне их стало жалко так, что я задул огарок и бросил его весь. Потом меня ругали. Сказали, что крысы вместе с валенками могли съесть и меня. Тоща еще я маленький был — не понимал.
К стене над матрасом прицеплен репродуктор. Черная бумага натянута на проволочный каркас так туго, что кое-где прорвалась. Я осторожно встаю, беру вилочку и втыкаю в дырки. Помолчав, репродуктор говорит:
— Мы передавали беседу товарища Сталина с корреспондентом газеты «Правда». А теперь послушайте китайскую народную музыку в исполнении оркестра Пекинского радио.
Под китайскую музыку я слезаю с матраса. Подбираю запылившуюся макаронину, кладу обратно в тарелку. Подтаскиваю стул к окну и влезаю на подоконник.
В окне двойные рамы. Между ними внизу слой грязной ваты, а сверху, зацепленная за форточку, свисает пустая авоська. Я расплющиваюсь о холод стекла.
Прямо напротив — одна стена, скучная, а налево — другая, повеселей, потому что к окну на этой стене подвешен фанерный ящик — ледник. Снег на крышке ледника истоптан голубями и воробьями — туда им бабушка из кухни бросает крошки. Направо тоже есть стена, но доходит она только до третьего этажа, а с нашего седьмого в эту щель открывается хоть и узкий, но дальний-дальний вид — на белое дно неведомого дворика. Там чернеет дерево, которое весной зазеленеет. В том дворике я никогда не бывал. С какой улицы туда можно попасть, через какую подворотню, какими проходными дворами — неизвестно. Никто этого не знает. Поэтому и снег там такой нетоптаный. Я мечтаю там побывать. Когда-нибудь.
Открывается дверь, и мама говорит:
— Слезь с окна: простудишься! В последний раз я взглядываю на дворик в раме обмороженного по краям стекла — и отлипаю.
— Мама, — вспоминаю я, — когда же мы пойдем в Зимний дворец?
— Пойдем, — обещает она снова.
— Когда?
— А хоть бы и сегодня! Я спрыгиваю на пол.
— Сейчас?
— Вечером, — говорит мама. — А сейчас мы с тобой пойдем за сахаром стоять. На Загородном выбросили и дают — представляешь? — по полкило в руки.
Читать дальше