Все остальные видели лишь застывшего посреди ристалища царевича, семнадцатилетнего юношу с кудрями белее хлопка, да кое-кто еще обратил внимание на колесницу, что выехала на арену и остановилась неподалеку от Арджуны. В ее «гнезде» каменел истуканом рослый воин в панцире с пекторалью белого золота, и серьги в ушах воина бились алыми сполохами, а на облучке, казалось, дремал с вожжами в руках сухонький возница-старичок, чье лицо скрывал странный колпак с прорезями для глаз.
Впрочем, уж возница-то точно никого не заинтересовал.
А перед внутренним взором слепого и зрячего, раджи и брахмана, вставало: простор Безначалья, битва, и падает, рушится, валится на яростных бойцов восьмиконечный паук Свастики. Двое смертных бьются у истоков Трехмирья оружием богов?! качаются опорные столбы Вселенной?! шипит в страхе Великий Змей Шеша?! трубят слоны-Земледержцы?!
Конец света?!
Локапалы спешили отовсюду, собирая воедино всю ауру Жара-тапаса, какая была в их распоряжении.
С этого момента происходящее видели уже все.
То есть абсолютно ВСЕ.
Все разумные и неразумные твари Трехмирья.
…Земля уходила у Арджуны из-под ног, огонь жег лицо, и каленые стрелы впивались в тело, причиняя адскую боль. Он проигрывал, он безнадежно проигрывал, гибель дышала ему в лицо смрадом шакальей пасти, но Долг Кшатрия стоял рядом с юношей, веля сражаться до последнего.
Со стороны же трудно было понять, кто из противников одерживает верх: бесчисленные множества существ затаив дыхание наблюдали, как кречеты со свистом пикируют на верткую колесницу, прорываясь к воину-суте, как один за другим падают они, сраженные ливнем железных стрел, и как потоки пламени устремляются навстречу друг другу, сливаясь в единый огненный смерч. Тряслась в лихорадке земля, трещало раздираемое в клочья небо, и клубы дыма заволакивали поле чести, скрывая бойцов от глаз зрителей.
А потом на миг наступило затишье, и две исполинские фигуры воздвиглись позади воителей. Клубящийся вихрь грозовых туч окутал Арджуну с ног до головы, не позволяя вражеским стрелам достичь сына Громовержца, и всей мощью полуденного солнца вспыхнули доспехи Карны, слепя взор, грозя сравняться с последним костром Кобыльей Пасти.
Вздрогнула Свастика, выгнулась дико, но гром уже рокотал в отдалении, а светило исподволь наливалось пурпуром, стремясь к закату, иные говорили, что после этого над океаном еще долго не мерк знак трезубца, — но кто поверит и кто проверит?! Никто.
Над потерявшим сознание Арджуной уже хлопотали слуги, лекари и жрецы, а большинство зрителей не то что понять — заметить не успели, как миф сменился обыденностью. Вот секундой раньше посреди арены стоял беловолосый герой, а в сознании зевак бушевало светопреставление, и вот в мозгу сквозняк гуляет, а на арене — целый человеческий муравейник, и разобраться, где явь, где бред, нет никакой возможности.
Зато колесницу с рослым воином, на котором медленно гас, словно втягиваясь в тело, сияющий доспех, заметили теперь все. Шутите? — не узнать второго героя, грудью встречавшего молнии сына Громовержца?!
Да полно, герой ли? Истинно глаголем, тупоумные: великий воитель! Может быть, даже полубог. Или целый бог. Или полтора. Но кем послан? на чью погибель? из каких сфер? чей сын? Именитые зрители и простолюдины терялись в догадках, а Грозный в ложе тем временем лихорадочно мучился извечным вопросом: что делать? Арджуну успели унести прочь и теперь усиленно приводили в чувство — ничего, оклемается! Напротив упала в обморок Кунти, Альбиносова вдовушка — что с женщины взять, пусть даже царицы? Понятно, за сына переволновалась…
— Что?!
Наставник Крипа, без приглашения возникнув в ложе, тихо зашептал на ухо регенту, кивая на воина в колеснице.
Грозный слушал, хмурился и дергал кончик седого чуба.
Память Крипы на лица оказалась куда лучше, чем у старого регента. И то сказать: помнить всех сутиных сыновей, подавшихся в бега…
— Ладно, — наконец сказал Грозный. — Давай, Наставник. Только тихо, тихо, ради Троицы! И потом — скоморохов… пусть юродствуют…
* * *
Крипа уже выбирался на арену, направляясь к колеснице незваного гостя, но его опередили. Откуда-то сбоку, спотыкаясь, выбежал старик… нет, не старик. Просто сильно потрепанный судьбой мужчина, в котором Крипа немедленно признал отца Карны, — Первый Колесничий после бегства сына долго болел, а после удалился на покой с разрешения Слепца.
Читать дальше
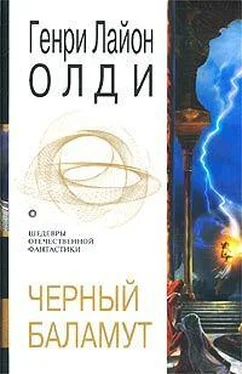



![Генри Олди - Черный ход [СИ litres]](/books/392078/genri-oldi-chernyj-hod-si-litres-thumb.webp)
![Генри Олди - Ойкумена [трилогия]](/books/409946/genri-oldi-ojkumena-trilogiya-thumb.webp)
