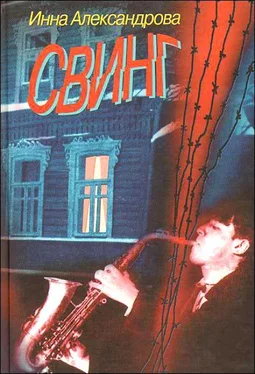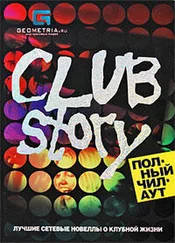Лицо Шуры становится неузнаваемым. Она видит его глаза, наполняющиеся слезами, его дрожащие губы. Он плачет. Плачет навзрыд. И успокаивается только тогда, когда она начинает гладить его лицо, греть в руках его холодные пальцы.
Да, у него есть все: работа, жена, дети. У него нет одного — любви. И если бы Аллах вознес его на муэдзинову площадку, он сказал бы только одно: как горько, как страшно, как безысходно, когда предаешь любовь…
…Господи! Столько лет прошло, а она все помнит. Все до мелочей. Так за что же вчера виноватила ее эта девочка?
Что сделала она в жизни такого, за что можно так упрекать? Может, за отца, который шестнадцатилетним юнцом пошел защищать революцию? Так он же поверил. Всем сердцем поверил, что будет строить справедливую жизнь — разумную, достойную. Верили старики в светлое будущее. Верили. Ждали его. Надеялись.
А они? Ее поколение? Ни во что уже не верили. Но руки на собраниях тянули. Тянули и врали. Значит, есть девочке за что ее виноватить…
А потому остается одно — попросить, как попросила когда-то Анна Андреевна Ахматова в Фонтанном Доме:
Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
1990 г.
Я не плакала в тот мартовский день
Девочка моя! Ты прочтешь эти строчки, когда коллеги мои — эскулапы — будут мудрствовать надо мной. Что делать? И меня Всевышний позвал на расправу…
Я не зову смерть, но и не боюсь ее. И если уж совсем честно — немного устала. Одно, только одно гложет душу: ты не знаешь всей правды обо мне и о себе. Не сказала раньше. Нельзя так уйти.
Доченька моя! Я благодарна тебе за ум, такт, выдержку. Ты никогда не пытала меня вполне оправданными для нашей жизни вопросами: кто твой отец, почему у нас нерусская фамилия. Ты ни разу не упрекнула меня горьким словом «безотцовщина». Ты понимала: в моей жизни было такое, о чем человек не хочет вспоминать, старается забыть навсегда. Я счастлива, что судьба одарила меня тобой…
Мы часто говорили о моем раннем детстве — до войны. Ты знаешь, мои отец, мать, дедушка — бабушки уже не было — жили на Госпитальной улице в Лефортово, во дворе, во флигеле. Флигеля этого давно уже нет. Я очень любила наши с дедом прогулки в Головинском саду, особенно по липовой аллее, которая шла вдоль Яузы. Какое счастье было, когда в жаркий летний день дед вел меня купаться на пруды, а потом мы долго сидели в гроте с белокаменными колоннами.
Иногда ходили на Кадетский плац — это теперь Краснокурсантская площадь. Там маршировали и пели красноармейцы. В погожие дни шли к Екатерининскому дворцу, где в девятнадцатом дед слушал Ленина.
Дед, наборщик, работал на фабрике «Красный пролетарий» Партиздата, а перед самой войной — во Второй типографии ОГИЗа. Тощий, с белой, как лунь, головой, он, видно, очень боялся, чтобы мать с отцом не съехали от него и вообще не умотали куда-нибудь за тридевять земель: они были геологами.
Отец с мамой учились на одном курсе, и старики сразу приняли невестку. Мама — высокая, стройная, сильная, с короткой стрижкой густых волнистых волос — была хороша собой. Она приехала в университет с Украины в двадцать седьмом году. Когда вспоминаю ее, думаю: такие женщины созданы для большой семьи, а она родила только меня. Ей впору было управляться с целым семейством, а она не растила даже меня — бесконечные командировки. Дед — мой изначальный воспитатель.
Трагедии предвоенных лет не коснулись нашей семьи только потому, что дед был беспартийный и, поняв обстановку, со всеми, кроме матери и отца, молчал. Отец, хоть и был коммунистом ленинского призыва, все время находился в геологических партиях — делах трудных и мужественных, куда всякая шваль и доносчики не очень-то лезли.
Я рассказывала тебе, как 22 июня сорок первого во время речи Молотова плакала, приговаривая: «Все равно разобьем этих проклятых фашистов», как дед и отец сразу пошли в военкомат, но там сказали: «Подождите». Деду — из-за возраста, отцу — из-за работы: в начале июня он был назначен начальником большого отдела в наркомате.
Бомбить Москву начали в конце июля. В наш дом вошли слова «оборонительные работы». В первой половине октября бои под Москвой стали очень тяжелыми, но нас уже не было. Дед, мать, я и отец уехали из города двадцать восьмого сентября. Уехали не по своей воле. Воля была чужая. Нас выслали, как ссылали когда-то за убийства, грабежи, инакомыслие…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу