Лишь когда мать опустили в землю заметила Тамара глубокую складку, словно шрам на переносье, искореженные работой непривычно застывшие руки. И складка, и руки были серого цвета, будто посыпанные грязной солью.
Матерей не выбирают, но если можно было, Тамара все равно выбрала бы ее, свою горемычную, немного порадовавшуюся на этом свете.
А потом надо было снова убирать, готовить, провожать сына в школу, работать, подметать осенние палые листья в саду.
— Ты меня любишь?
— Нет.
— Как?
— Вот глупая. Так.
…Тамара вздрогнула. Сухая веточка оцарапала ей ногу. Сын давно сигналил ей из машины. Пора было возвращаться.
…Старая женщина медленно поднялась и пошла к машине. К подолу ее платья прицепились несколько веточек тамариска и множество мелких ракушек. От них тянулся длинный тусклый след, который даже на вид казался солоноватым.
Море шумело спокойно и четко, как здоровое человеческое сердце. Сухие звезды бессмертника покачивались на ветру. Но они уже не казались янтарными. На все вокруг лег ровный и строгий сумеречный свет.
Каждый день августа хотелось смаковать, лелеять, вкушать как сладкую конфету. Бакинский август, притягательный как любовь, лил с неба потоки расплавленной синевы. Недаром август называют порой созревания инжира и винограда. Марево — сизое как рута, сизое как старушечьи вены — дрожало в воздухе и наливало сладостью янтарные гроздья и рыхлые ягоды смоквы. И они, истомленные, истекающие соком, с глухим стуком шмякались об асфальт, распластывались липкой лепешкой, привлекали на пиршество мух. А разве нельзя и мухам побаловаться Божьим изобилием? Или они не Божьи твари?!
— Дурашка, Дурашка…
— Р-р-р!
— Стой, Дурашка, не вертись!
Рустам погладил собаку. Тотчас из окна двухэтажного дома высунулась встрепанная женская голова с повязкой на лбу.
— Я тебе сколько раз говорила, не трогать собаку. Мало ли какие у нее микробы. Заболеешь — клянусь жизнью твоего брата — лечить не буду!
— Обязательно моей жизнью надо клясться! — послышался вопль шестилетнего Камиля. — Почему его жизнью не клянешься?!
— Цыц! — прикрикнула мать. — Тоже мне — вчерашнее яйцо курицу учит! Вот отец придет — все расскажу ему! Рустам, Руста-ам!
— Да, мама! — Рустам хихикал, но придал голосу серьезность, ибо легкомысленный смех не украшает девятилетнего мужчину!
— Привяжи собаку к дереву, мой руки, и поднимайся в дом. Обедать будем.
Обедать — это всегда хорошо. И пока Рустам привязывал Дурашку к айвовому дереву, мыл руки, мама уже выкладывала на стол салат из огурцов и помидоров и разливала по тарелкам суп с мясными тефтелями и горохом — любимое блюдо мальчишек.
— Бери хлеб. — Мать подвинула к Рустаму тарелку с хлебом. — А ты не болтай ногами, — обратилась она к Камилю. Тот сосредоточенно выскребывал со дна тарелки гущу и болтал ногами под столом. Голос матери вдруг стал просительным.
— Когда поешь, Рустамчик, отнеси дедушке немного супу. Я налила уже в банку.
— Ну, мам!!! — В планы Рустама явно не входило тащиться через весь поселок с кошелкой, когда можно провести остаток дня с толком! Окунуться в пенное, ласковое море, поваляться на песке, погрызть горячие соленые початки кукурузы, побегать с Дурашкой по берегу, залезть на дерево и собрать инжир, — да мало ли еще важных дел! Он скорчил умоляющую рожу.
— Никуда инжир не денется, — сказала мама. — И море не убежит. А дедушка один, скучает, к нам ему приходить трудно, он старенький, надо его навестить, побаловать домашним.
Своего двоюродного деда, дядю матери, Рустам любил сложной любовью. С упрямым этим голубоглазым стариком было интересно, но долго рядом с ним находиться было нельзя. Старик обожал лук и чеснок, считал их панацеей от всех болезней, и ел по 3 раза в день. Возможно, поэтому и дожил до 81 года, пережив жену и дочь, всех младших братьев и дождавшись внуков и правнуков. Те благополучно процветали в другом городе, звали старика к себе, но он наотрез отказался покинуть свой маленький дом, крохотную печку и занесенный песком сад. «Здесь я родился, отсюда меня и вынесут» — отрезал он раз и навсегда, когда внук в очередной раз подступил к нему с уговорами. Тому ничего не оставалось делать, как поручить деда заботам матери Рустама и Камиля. Заботы были трогательны, щедры, но редки. Старик упорно отвергал чрезмерные ухаживания. «И у благодеяния шипы торчат» — повторял он, нимало не смущаясь тем, что эти слова задевают и обижают племянницу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
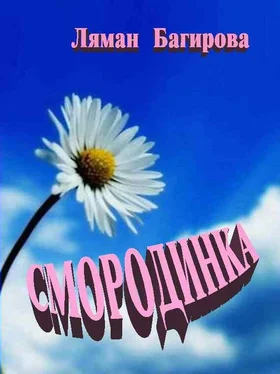


![Екатерина Багирова - Сплошные неприятности отнюдь не вечны 2 [СИ]](/books/413313/ekaterina-bagirova-sploshnye-nepriyatnosti-otnyud-ne-thumb.webp)
![Екатерина Багирова - Сплошные неприятности отнюдь не вечны [СИ]](/books/413314/ekaterina-bagirova-sploshnye-nepriyatnosti-otnyud-ne-thumb.webp)
![Екатерина Багирова - На Перекрестке миров [СИ]](/books/413315/ekaterina-bagirova-na-perekrestke-mirov-si-thumb.webp)
![Екатерина Багирова - Черный цветок [СИ]](/books/413316/ekaterina-bagirova-chernyj-cvetok-si-thumb.webp)



