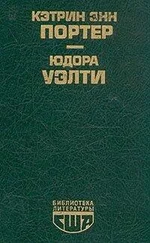— Нет-нет, — подавленно, терпеливо промолвила Эльза. — На солнце очень жарко.
— Даю тебе срок до завтра, — сказала мать тоном, не допускающим возражений. — Если до завтра не перестанешь киснуть, дам тебе слабительное. Это тебе сразу поможет. Тут на пароходе так мало двигаешься, а пища тяжелая — ясное дело, у меня и у самой разболелась бы голова. Хорошая порция слабительного — вот что тебе поможет. А сейчас возьми себя в руки и пойдем, доиграешь с отцом партию в домино. И мне не нравится эта твоя прическа, Эльза. Вечером уложишь волосы по-старому. И никогда больше не меняй прическу, не спросясь меня.
— Хорошо, мама, — покорно сказала Эльза и опять подсела к отцу.
Играть в домино и шашки с отцом, хлопотать по хозяйству (ненавистное занятие!), непрестанно выслушивая маменькины советы, наставления и попреки, не иметь права даже собственные волосы уложить по-своему и навек остаться старой девой — да, конечно, вот какая судьба ее ждет. На миг сердце у Эльзы замерло — и вновь отчаянно заколотилось в груди, так бьется узник о тюремную решетку: будто это не часть ее самой, а кто-то чужой, запертый у нее внутри, полный ужаса, криком кричит. «Выпусти меня!»
Заметив, какое у дочери потерянное лицо, отец ласково ущипнул ее за щеку, сказал весело:
— Уж не влюбилась ли в кого наша Эльза? Может, в большого важного шведа Хансена? А, Эльза, сокровище мое? Признайся папе с мамой Мы в таких делах разбираемся.
После долгого колебания Эльза выложила дубль-шесть и сказала еще покорней прежнего.
— Нет-нет, папа, ты ошибаешься.
Фрау Лутц вскинула глаза от вязанья — и то, что мелькнуло перед нею в дверном проеме, на фоне сияющего неба, заставило ее сдвинуть брови и предостерегающе взглянуть на мужа — до чего бестактен, всегда что-нибудь ляпнет, не подумав Арне Хансен танцевал с Ампаро. Похоже, она посвящала его в тайны испанского танца. Опять и опять они мелькали в проеме, Хансен двигался неловко, медведь медведем, и Ампаро с ним обращалась так, будто и впрямь дрессировала неуклюжего зверя. Вот она его бранит, вот насмехается над ним, взяла за локти, тряхнула. И он, очень серьезный, все начинает сызнова, путается, огромные ноги и руки не слушаются его, влажная рубашка липнет к розовой коже. Он точно околдованный и нимало не думает о том, как постыдно, возмутительно он выглядит.
Фрау Лутц изумилась, она всегда считала, что прекрасно разбирается в людях — и вдруг так ошибиться в человеке! Хорошо еще, что дочь сидит спиной к двери и не видит этого безобразия. Нелегко быть матерью, ни днем ни ночью нет покоя — так трудно оберечь невинную душу дочери. Куда ни погляди — безнравственность, бесстыдство, сомнительные сцены, подозрительные личности, беззастенчиво ведут себя даже люди, на которых, казалось бы, можно положиться. Ох, уж эти мужчины!
Она остановила мрачный взгляд на муже. Вечно он говорит Эльзе глупости, играет кое-как — и столь же мало, как в игре, смыслит в жизни, а она так страшно серьезна… это ж надо — развлекать Эльзу шуточками о любви! Что стало бы с их семьей, если б она, фрау Лутц, по неосмотрительности хоть в чем-то, хоть на минуту понадеялась на своего супруга? Нет, давно и твердо решено: Эльзе она подыщет совсем не такого мужа.
Иоганн, кативший по палубе дядино кресло, заслышал звуки испанского танца и заторопился, потом увидел впереди танцующую Лолу, которая кружилась, пристукивая каблучками, и опять замедлил шаг. Угрюмое лицо его с очень белой кожей и редкой золотистой щетинкой на подбородке озарилось нежностью, в эту минуту он напоминал юного ангела. Он подкатил кресло к перилам и остановился, любуясь восхитительным зрелищем.
— Иди дальше, Иоганн, — сказал дядя.
Когда кресло покачивалось на ходу, боль немного отпускала, и, если ветерок дует в лицо, легче дышать. Вся плоть старика и самые кости его были иссушены старостью, усталостью, одиночеством, день и ночь они взывали хоть о малой капле жалости, утешения и покоя. В больнице в Мехико натирали его с головы до пят душистым гамамелисом, крепкие молодые ладони легонько разминали его измученное тело; там его поили теплым молоком и прохладными соками плодов папайи, граната, лиметты, и он тянул сок через стеклянную трубочку, сосал, полусонный, будто снова стал младенцем. А ночью, едва он застонет и позовет, приходила мексиканка-монахиня в белом чепце, под легкой белой вуалью, и ухаживала за ним, и тихонько покачивала мягкий пружинный матрац, будто колыбель, и шепотом читала Ave Mana.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу