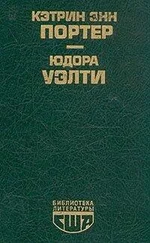Да, а теперь я заперта в дрянной тесной каюте с этой пошлячкой, и скоро она явится и начнет болтать о своих «романах». Такую женщину я к себе и на порог бы не пустила, разве что она пришла бы сделать мне прическу или принесла новое платье для примерки; а тут сиди и нюхай ее мерзкие духи, и спи в тех же четырех стенах, и я чересчур много выпила и тридцать раз подряд раскладывала пасьянс — и ни один так и не вышел. Но иначе жизнь — вот эта самая жизнь, ведь это сегодняшнее жалкое свинство и есть жизнь — станет до того унылой и отвратительной, что ни минуты больше не выдержать…
Она отвернула одеяло и снова легла; расправила рубашку, встряхнула рукава, чтобы спадали красивыми складками, и налила еще стаканчик бургундского; все ее движения были спокойны и аккуратны, как у пай-девочки, воспитанной в монастыре. Может быть, всему виной ее детство, оно-то ее и погубило. Много лет назад один врач сказал ей, что для ребенка так же пагубен избыток любви, как и ее отсутствие. А что это значит, может ли ребенок сверх меры любить и можно ли сверх меры любить ребенка? Тогда она подумала, что этот доктор просто глуп. Конечно, в детстве ее ужасно избаловали, это пошло совсем не на пользу, но чудесная была пора. Память о детстве жила у нее в крови, яркая, трепетная. Только после она поняла, как просторен и красив был старый дом в Мэри-Хилл, а тогда он был для нее просто — родной дом. Она и сейчас всем существом помнила те годы, полные нежности, тепла и защищенности, безмятежный ход времени, роскошь, о которой она тогда и не знала, что это роскошь, вокруг все так жили. И всегда она слышала ласковые голоса, всегда ее касались ласковые руки… «Верно вам говорю, уж больно безответное у нас дитятко», — чудился ей голос няни, и мамин ответ: «Совсем она не безответная, просто у девочки очень спокойный, хороший характер».
Позже очень многие женщины завидовали — она еще девочкой каждый год ездила во Францию и в Италию, училась во французском, а потом в швейцарском пансионе. Сама она вовсе не думала, что это так уж великолепно — чаще вспоминалось, как в пансионах было неуютно, учительницы скучные и чопорные, вода в умывальнике холодная, еда безвкусная, и каждый шаг расписан, и без конца водят в церковь, и эти ужасные письменные работы на экзаменах; и до странности приятно было вместе с подружкой — соседкой по спальне — плакать или радоваться, когда приходили письма и маленькие подарки из дому. Каждая из них так же искренне плакала или радовалась домашним вестям и подаркам подруги, как и своим. Как же звали ту девочку, ее подругу и соседку? Имя забылось. Да разве это важно. Разве теперь уверишь себя, будто жалеешь об узах, которые давным-давно исчезли, истаяли, как дымок сигареты. Миссис Тредуэл зажгла свет, закурила сигарету, — надо бы отделаться от этой никчемной грусти, которая совсем некстати спутала ее мысли. В тот год, когда она стала выезжать в свет, несчетные вечера, званые обеды, танцы, цветы слились в сплошной радостный, сияющий водоворот; неужели и правда было так весело, как ей теперь вспоминается? Даже и не снилось, что будет война… что настанут какие-то перемены. Воспоминания о той жизни, о няне, которая к тому времени стала ее горничной и всегда оставалась самой близкой ее подругой и поверенной, о старой няне, которая знала про нее куда больше, чем отец с матерью или кто-либо из родных, — воспоминания эти стали теплой ласковой дымкой, розовым облачком витали в мыслях, она давно уже привыкла убаюкивать себя ими; помнилось, как ждала она счастья, — ей внушили, что счастье привнесет первая любовь.
Время, отъявленный лжец и обманщик, все перемешало и перепутало, но и время не коснулось того, что лежит по другую сторону первой любви, которая расколола всю ее жизнь надвое, — и хоть она с тех пор многому научилась, все, что было до той первой любви, и сейчас кажется ей истинным, неприкосновенным и неизменным. Сохрани все это, сохрани, твердит ей сердце, истинно ли это, нет ли, но это — твое. Пускай отец и мать не узнали бы ее теперь, если б увидели, — что из этого? Любимые и любящие, они безмятежно покоятся в ней самой — не запечатленные в памяти лица, не застывший миг какого-то движения или поступка, нет, они — в ровном беге ее крови по жилам, в стуке ее сердца, в каждом вздохе. Это все подлинное, это было с нею, и этого у нее не отнимешь. Пока ей не минуло двадцать, в жизнь (жизнь! Что за слово!) вполне можно было верить — и чем больше в ней мерещилось чудес, тем легче верилось; о да, жизнь прочно стояла на якоре, и однако всегда ощущалось медлительное движение, точно у корабля в гавани. А двадцати лет она влюбилась в совсем неподходящего человека, родители так и не узнали, до чего он ей не подходил, ведь они его ни разу не видали, а она с тех пор не возвращалась домой, — и начался долгий, беспросветный ужас. Десять лет чего-то вроде замужества и десять лет в разводе, жалкое, сомнительное существование одиночки, бродяги, перекати-поля, сидишь в кафе, в гостиницах, в поездах и на пароходах, в театрах и в чужих домах рядом с такими же бродягами, так прошло полжизни, половина всей ее жизни, и все это неправда, все ненастоящее, словно на самом деле и не было. Только одно доподлинно случилось за эти годы: отец и мать вместе погибли в автомобильной катастрофе, и она не поехала на похороны. А больше она ничего не признает, все остальное — неправда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу