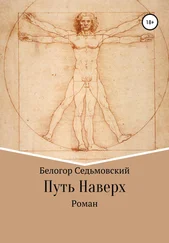— Я жил здесь. Это мой дом.
— Тогда простите.— Он снял очки и принялся протирать стекла каким-то лоскутом, и лицо у него сразу обмякло, стало безвольным и домашним.— Ужасное, ужасное несчастье.— Он покосился на крылышко на рукаве моего мундира.— Но вы с ними сквитаетесь,— сказал он и надел очки, отчего лицо его снова стало решительным.— Да, да, задайте этим сволочам жару! — сказал он.
В самом ли деле он произнес эти слова или мне только показалось? Но так или иначе я запомнил всю его речь от слова до слова. И я отчетливо помню, как он нахмурился и выставил вперед подбородок, стараясь быть похожим на воина с плаката. Фон-то был для этого идеален: вальки для отжиманья белья, выброшенные через кухонное окно, расколовшаяся надвое фаянсовая раковина… Толстый шерстяной носок с заштопанной пяткой выглядывал из-под придавившего его куска штукатурки, а вся посуда, за исключением одной толстой пивной кружки, лежала в осколках, вперемешку с сахаром, сливочным маслом, джемом, сосисками, хлебом и золотистым сиропом.
Отец и мать уже легли спать, когда была сброшена бомба. Сирена провыла сигнал воздушной тревоги, но едва ли они обратили на него внимание. Бомбить Дафтон не было решительно никакого смысла. Смерть для них наступила мгновенно — так по крайней мере заявил Зомби номер Один (в новом костюме и шелковом галстуке у него был необычайно преуспевающий вид), стоя между секретарем муниципалитета и Деловитым Зомби,— все трое составляли как бы скульптурную группу, изображающую официальное соболезнование. Меня даже угостили виски — торжественно и в то же время словно украдкой, и я едва не рассмеялся, когда пил его, потому что внезапно вспомнил, как Чарлз описывал воображаемый тайник муниципалитета — огромный погреб, заполненный бутылками с редкими винами и охраняемый великанами-евнухами с ятаганами наголо. Мною овладело вдруг сумасшедшее желание задать вопрос: по-прежнему ли хранятся там излюбленные напитки зомби, вроде настойки на крови?
Я шагнул вперед в пустоту, которая была когда-то гостиной. Шагнул теперь совсем спокойно — гораздо спокойнее, чем в то августовское утро. Я старался восстановить эту комнату в памяти. Я твердо помнил кремовый тюль занавесок и красные бархатные гардины и мою большую фотографию еще ребенком, которая висела над камином. Но вот где стоял большой дубовый стол, я уже не мог сказать с полной уверенностью. На секунду я закрыл глаза, и стол вместе с тремя виндзорскими стульями по бокам тотчас встал на место — у противоположной стены. А вон там стоял диван в синем чехле — как раз это было очень важно припомнить. Когда у дивана ослабели пружины, отец притащил обитое кожей автомобильное сиденье из лавки старьевщика. Чехол легко снимался, и как только родители отлучались из дома, я стаскивал его и, сев справа за воображаемый руль, часами гонял «бентли» мистера Бэркина или «ирондель» мистера Сейнта.
Стены в гостиной были оклеены оранжево-коричневыми обоями и отделаны панелями под дуб. Теперь от обоев осталось лишь несколько лоскутьев, а панели разбухли под действием дождя, пропитались грязью и сажей. Когда-то на них имелся рельефный рисунок, напоминавший бусинки. Я зажег спичку, поднес ее к стене и сразу увидел следы моих детских ногтей в том месте, где я пытался отколупнуть хоть одну бусинку. Я почувствовал острые угрызения совести: даже в детстве я не должен был осквернять родительский дом таким образом — хотя это и казалось пустяком.
Бомба пощадила камин, он остался нетронутым. Два выемных кирпича на левой стороне и сейчас еще немного выдавались вперед, словно клыки. Сколько я себя помню, вид их всегда почему-то раздражал меня, но в то Черное утро мне почудилось в них что-то невыразимо трогательное. И ручка от регулирующей тягу заслонки,— в виде хромированного кулака, сжимающего прут,— которая частенько снилась мне и которой я всегда побаивался, утратила все, что было в ней устрашающего, и казалась щемяще-жалкой, как рука больного ребенка.
Все тогда были исполнены сочувствия, и каждую минуту кто-нибудь наведывался к тете Эмили. Всевозможные городские организации буквально завалили меня подарками, и шли разговоры о том, чтобы открыть сбор пожертвований в мою пользу. Объяснялось это, в сущности, тем, что довольно сложная машина организации помощи жертвам воздушных налетов совершенно бездействовала в нашем городе в течение всей войны, пока не были убиты мои родители. Теперь же, будучи приведена в действие, она, уподобившись слону, который тщится подобрать с земли орешек, весь свой энтузиазм обрушила на меня. И все же мне отчасти нравилось быть центром внимания, я чувствовал себя тепло и уютно на мягкой груди всеобщего сочувствия.
Читать дальше