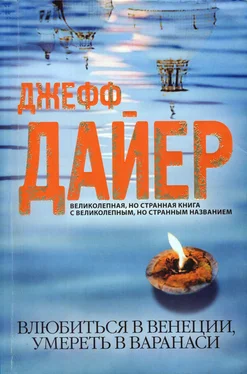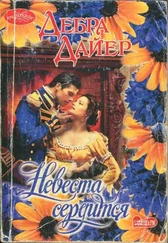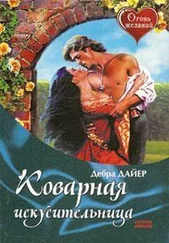В книге отзывов кто-то сделал запись из трех строк. Я решил, что это хинди, и попросил Лалин прочесть их для меня. Это была цитата из стихотворения Фаиза, сказала она, одного пакистанского поэта. Фаиз писал на урду, но процитировавший перевел ее на хинди. Скользя пальцем вдоль вязи строк, она не без запинки перевела их еще раз, теперь уже на английский.
Все, что останется, — это имя Аллаха,
Он тот, кого нет, но кто также и есть,
Он и видящий, он же и видимое.
Я уставился на этот непостижимый набор слов, ожидая пока их обнажившийся смысл не осядет обратно.
— Без первой строчки, наверное, было бы лучше, — сказала Лал.
— Да, в этом контексте можно было обойтись и без контекста, — резюмировал я. — Но мне нравится ритм.
Публика довольно быстро разошлась — как и на ужинах в «Виде на Ганг» отсутствие спиртного лишало людей мотивации к тому, чтобы задержаться подольше. Когда галерея почти опустела, я смог увидеть все фотографии сразу, вытянутые в одну линию по белым стенам комнаты, а теперь еще и с подписью Фаиза. Уходящий в перспективу коридор, влажный пол, отражающий двери и окна. Башня в окружении неба. Огни под водой — как будто что-то отражается само в себе.
У нас в отеле остановились двое музыкантов, таблист и французский гитарист. Гитарист изучал в Калькутте музыку хиндустани; на его инструменте стояли добавочные резонансные струны, придававшие ему индийское звучание. Таблист был индийцем из Бомбея, но жил преимущественно в Европе, в Германии. Они были не знакомы, но после ужина устроили совместный джем-сейшн на маленькой террасе на крыше отеля. Это не было концертом для публики, но все, кто жил в отеле, могли прийти послушать.
Даже если ты слушал очень внимательно, нельзя было не почувствовать себя здесь немного чужим: музыканты словно свили для себя кокон, в котором не было места посторонним. Глядя на их игру, ты словно бы видел двух любовников, внимательных и восприимчивых к каждому жесту партнера, но далеких от всех остальных. Когда они играли, то слушали и видели лишь друг друга, а когда не играли, их ничто не интересовало — кроме разговоров о музыке. Трудно было не позавидовать такой всепоглощенности. Годами я зарабатывал на жизнь журналистикой, хотя на самом деле терпеть не мог писать. Когда мне нужно было что-то написать, я готов был делать что угодно — что угодно! — только не это: играть в теннис, смотреть телевизор, пить, мыть пол, принимать ванну, читать газету, да просто плевать в потолок! Годилась любая замена. Возможно, все было бы иначе, если бы я писал «своё» — что бы это ни значило, — но вряд ли. Ведь и в этом случае пришлось бы писать, а значит, снова откладывать и избегать до последнего. Тогда как эти двое хотели только одного — играть музыку. Они все время упражнялись, каждый в своей комнате, оттачивая то, что вместе открыли для себя накануне, или нащупывая какие-то темы, которые они намеревались опробовать этим вечером. Хотел бы я, чтобы в моей жизни было что-то подобное. Уверенный, что когда-то оно так и было, я напряг всю свою память. На это ушло довольно много времени, но в итоге мне пришлось смириться с тем, что я не мог ничего вспомнить — по той простой причине, что вспоминать-то было нечего. Разве что теннис. Правда, к тому времени, как я стал относиться к нему серьезно, я уже физически не тянул на большие нагрузки: максимум три раза в неделю — и все. Если я превышал этот лимит, случались травмы. Что еще? Вечеринки, алкоголь, наркотики. Наркотики всегда меня привлекали, но и тут, как с теннисом, было совершенно ясно, что, перегнув палку, можно себе навредить — как по части здоровья, так и в плане психики. Тем более что прием наркотиков вряд ли можно было счесть призванием — в любом случае это был не мой путь. Это было хобби, форма отдыха, а не то, чем можно было бы зарабатывать на жизнь. Пожалуй, самое непреходящее и всепоглощающее удовольствие всегда приносил мне как раз тот образ жизни, который я вел сейчас — счастливое ничегонеделание. И он вполне мог стать непреходящим, это можно было устроить. Сдавая свою лондонскую квартиру, я мог жить так до бесконечности.
В первые недели в Варанаси я постоянно проверял электронную почту и старался быть в курсе дел по работе. (К тому времени, как мой материал о Варанаси появился на сайте «Телеграф», я уже почти свыкся со всем тем, что поначалу заставляло меня чувствовать себя здесь туристом с Марса). С тех пор я пустил все на самотек и не ответил на несколько предложений работы. Не было таких уж срочных дел, которые не могли бы подождать, а если подождать достаточно долго, то, просто в силу своей срочности, они наверняка потеряют свою актуальность. Поток ответной корреспонденции тоже начал постепенно чахнуть, иссякать и в конце концов сошел на нет. Единственное, за чем я еще продолжал следить, был футбол — возможно, потому что это было совершенно бессмысленно. Матчи, которых нельзя было увидеть — хотя бы как серию самых острых моментов в спортивных новостях, — уже не вызывали интереса; не будь их вовсе, мне было бы все равно. При таком раскладе счет мог быть каким угодно («Челси» проиграл «Уотфорду» со счетом восемь-ноль — и что с того?). И все же от футбола было трудно отказаться, особенно теперь, когда возобновился — якобы — Кубок Европы. Я не болел ни за какую команду, но недоступность футбола была для меня больной темой. И дело было не только в самой игре — футбол придает жизни определенную направленность; это общая вера и те мифы, победы и поражения, которые ее питают.
Читать дальше