Значит, это был он, тот, кто прислал телеграмму по пневматичке, тот, кому назначено свидание на Полярной звезде, огромный орангутанг в темных очках? Я сказала Клер: «Вот здорово, дружок! — как она когда-то сказала мне, оттого, что я так выросла. — Значит, тебя любят даже в Перу?»
Ален опустил голову, он чертил ножом по скатерти. Морщины у него на лбу казались нарисованными карандашом. Папа сложил письмо, поскреб шею; по-моему, он даже тихонечко заржал — гимн лошадей, взявших барьер, — но, может быть, я все это придумала. Мама укладывала справа от себя тосты, один на другой, ровным столбиком, потом взглянула на Алена, и в глазах ее снова воскресла Клер, ей хотелось показать, что Клер сожалеет, и она проговорила:
— Ален, скажите, что вы меня прощаете? Я заблуждалась, я так виню себя, но в то же время для меня такая огромная радость, что… ох! Простите, простите, я вас всех шокирую.
Папа, должно быть, счел, что мама преувеличивает:
— Но, Вероника, вовсе не надо извиняться. Они уже тайком распрощались, он и она. И поцеловались. И она даже подарила ему свою карточку и просила никогда пи-кому ее не показывать.
Все поглядели на папу так, словно он сошел с ума.
— Ты все выдумываешь, выдумываешь, — поспешно сказала мама.
— Вовсе нет, — сказал папа, — когда любят, любят навеки.
И с видом человека сведущего он откашлялся, чтобы избавиться от смущения, потом сказал:
— Ну хватит. Слишком это ужасно, да и ничего не дает.
Он спустил меня с колен и вышел, ни на кого не глядя.
— Моя козочка! — повторила Валери. — Он называет ее «моя козочка», и мы должны это слушать!
Она издала короткий смешок. А я смотрела на муху, увязшую лапками в джеме, и мой рот растягивался в улыбку. Я представляла себе огромного типа в темных очках, как он стоит, засунув руки в карманы, и насвистывает песенку о ковбое, который собирается съесть жареного цыпленка.
Клер с растрепавшимися волосами мечтала на солнце, подставляла солнцу маленький нос, жизнь под солнцем казалась ей прекрасной, и что же поделаешь, если отныне глазницы ее пусты.
Вот к какой жизни я стремилась — за пределами метронома, когда в мгновение ока перепрыгиваешь из Перу в слишком уж упорядоченный дом в Бретани, не страшась, что тебя поглотит земля — ведь Земля так огромна.
Не страшась ни копий, ни стрел, ни греческого огня, ни бомб — всех этих хрестоматийных ужасов. Не боясь ни революций, ни рака, ни полетов на Лупу — всех этих бабушкиных запретов. Без коленопреклонений, без чаепитий, без стремления прослыть образцом высокой морали.
И я смотрела на Клер, не видя ее, на Клер, зубами рвущую в мелкие клочки телеграмму, проглатывающую ее, чтобы быть уверенной, что не позабудет уходя.
Мама взяла письмо, повертела в руке.
— Прочту его в последний раз. И покончим с этим… мне так не хочется, чтобы это омрачало память о Клер.
— Это и в самом деле было бы прискорбно, — прошептал Ален.
Я встала, чувствуя себя но меньшей мере восемнадцатилетней, и сказала маме, как равная равной:
— Не понимаю, кого ты собираешься оберегать. Что бы там ни было, Алей все равно уже не может расторгнуть помолвку с Клер.
Мама быстренько напомнила мне мой возраст, отвесив пощечину.
Мы дрались на дуэли: мама и я. Я была в перуанской рубашке с кружевными манжетами, в черных штанах с широким поясом, в сапогах с серебряными шпорами, я зарядила пистолеты, взвела курок и целилась маме прямо в лоб в ответ на ее пощечину.
— Ты и правда хочешь заставить меня уехать, как Клер?
С того дня как она меня укусила, мама ни разу не осмелилась меня даже пальцем тронуть. Когда она в хорошем настроении, она говорит:
— Я просто робею, когда ты так смотришь на меня.
Когда она раздражена, она говорит:
— Не смей на меня так смотреть.
И все. Она еще ни разу не осмеливалась поднять на меня руку. На Клер да, постоянно. Анриетта говорит:
— Если собрать все пощечины, которые ваша мамаша отвесила этой девочке, набралось бы аплодисментов минут на пять.
— Иди в свою комнату, — пробормотала мама, — уходи, ты сама не знаешь, что говоришь.
Ален и Валери не пошевельнулись, я видела их глаза, похожие на испуганных птенчиков, готовых издать пронзительный писк. Я сказала маме:
— Тогда идем со мной, я хочу с тобой поговорить.
Мы поднялись по лестнице друг за дружкой прямо в Перуанскую пустыню, где в каждом кактусе таилась угроза и где жила обманчивая надежда, что вдруг все могло бы вновь стать ясным и простым, что, преодолев линию горизонта, можно в крайнем случае обо всем позабыть.
Читать дальше
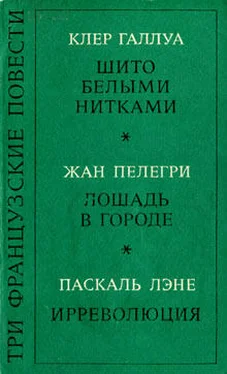








![Кассия Сен-Клер - Золотая нить. Как ткань изменила историю [litres]](/books/438680/kassiya-sen-thumb.webp)

