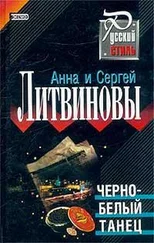— Ладно-ладно… — Васин взял шарф, намотал на шею. Он знал, что Ларочка практически не ворует. — Водки или самогону?..
— Во-одочки.
Васин поставил перед ней тарелку с ухой.
— Спасибо, я сыта.
— Есть не будешь — не налью.
Ларочка взяла ложку.
— Сережа, а что было потом с девушкой Милдред?
— Кончилось все. Домой пошла. Кушайте, Ларочка.
К Ларочке я питаю особые чувства. Она выпускница Можайской женской колонии. Она со всеми «на вы», даже с детьми. Никто из дачников, даже самых отстойных, не может про нее сказать ничего дурного. Пьяная, она тихо беседует сама с собой, улыбаясь. Трезвая работает как зверюга, без перекуров. Как-то напросилась ко мне колоть дрова. Руки у нее были чуть не вдвое тоньше топорища. Мне стало неудобно. «Не надо меня жалеть, занимайтесь своим делом», — вежливо сказала она.
— А можно за вас выпить, Петр Иваныч? — прикрывая цыплячьей ручкой беззубый рот, пролепетала Ларочка. — И за Петра Андреича. И за Владимира Александровича. И за Сережу.
— И за вас, Ларочка, — сказал я.
Старче потянулся к ней чокнуться, злость у него прошла.
— Что ж ты, Ларка, сучара, сделала…
Садовые огородники прошли в обратную сторону, по-прежнему недовольные. Васин упорно их не замечал. Мне показалось, они нам завидовали. Ибо у нас за забором, несмотря ни на что, дышала почва и судьба, а у них — хрен ночевал. А может быть, я опять ошибаюсь.
На своем сорокапятилетии я расчувствовался: «Земную жизнь пройдя до середины…» Мой свояк протрезвел от подобной наглости: сорок пять — впору ласты склеить, а он — лишь до середины доканал! Я затащил его к нашим на Ваганьково, зять опешил: вся отцова родня зашкаливала за девяносто. И по линии матери прожиточный минимум — восемьдесят пять лет, без рака, без сосудов. Однако в почке моей мамы завелась гнида. Почку пришлось отрезать, и мама продолжила житье.
Родилась она в 24-м году в беспартийной мещанской семье (моя бабушка Липа до конца говорила «табаретка», «жезлонг», «жизофрения»). Томочка росла круглой отличницей: по учебе, спорту, красоте и чтению художественной литературы, хотя книги в доме не водились. И пришла ей пора вступать в комсомол. Но она заартачилась. Не корреспондировала лихая година с Пушкиным, Чеховым, Толстым… Ее постращали в школе, пожурили дома и отступились. Летом 41-го она собралась на фронт, ее нарядили в Басманную больницу, в госпиталь… На фронт расхотелось. В эвакуации Томочка окончила школу. С драгметаллом в стране была напряженка, ей вписали в аттестат «с золотой медалью». И уже в Москве без комсомола поступила в МГУ на восточный факультет: к литературе поближе, от идеологии подальше. В доме опять перепо-лохались: зачем Восток, не нужен нам берег турецкий! Но Томочка привычно — с отличием — окончила университет, по инерции защитила кандидатскую.
В Ленинке ее высмотрел мой папа. Оба влюбились. Томочка безоговорочно, а папа Женя с раздумьем, ибо был в послевоенном дефиците и малек покуражился, не желая так сразу обручаться. А на дворе тем часом начался жидо-бой. Томочка как правоверная жена рвалась принять фамилию мужа Беркенгейм, на что папа Женя вопил как потерпевший: «Тома, ты рехнулась!..» Еле умолил ее остаться, как была в девах, — Калякиной-Калединой.
Бабушка Липа снисходила к выбору дочери и в разговоре с соседями сохраняла объективность: «Женя наполовину еврей, но из хорошей семьи». А дедушка Георгий загрустил. Он вообще считал, что человек, прежде чем родиться, должен принять граммов сто пятьдесят, мечтал на законном основании захмеляться рука об руку с зятем, а тут — облом.
Страна в те годы была нерушимой и многонациональной — на Томочку был спрос. Она работала в Гослите редактором, вела творческий семинар по азербайджанской литературе в Литинституте, работала консультантом в Союзе писателей и переводила толстые восточные романы. Сокращать себя авторы не давали: казна платила с листа. Странное дело, ей, веселому человеку со вкусом, эта долгоиграющая писанина нравилась. Но иногда она швыряла рукопись, вцеплялась в волосы и хрипло выла: «Не-е могу-у!..»
Восточные гости не покидали наш дом. Аллах запретил им сок виноградной лозы, они пили водку. Среди них были солидные люди: секретари Союза писателей, начальники. Один пожилой туркмен с депутатским значком на лацкане меня заинтересовал — у него не было уха. Я дождался, когда он загрузится алкоголем, и робко поинтересовался: а где у вас ушко? Дядя, расслабившись, рассказал, как в детстве пас овец, но прилетели аэропланы, убили весь аул, попало в ухо и ему. «К вам немцы прилетали?» — уточнил я. Туркмен, мигом протрезвев, засобирался в гостиницу. Мама негромко пояснила, что так советская власть выводила басмачей. Я рыпнулся в автобиографическую книгу туркмена: детство было, овцы были, аэропланов не было.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу