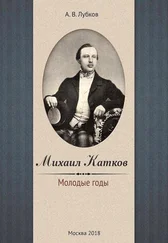В середине дня они проснулись, Александр Петрович обнял Нину Григорьевну:
– Все хорошо, Ниночка, дожили до 9 мая.
Она тихо плакала, глядя на «стенку»:
– Мы тогда могли взять четырехсекционную… неполированную… А я хотела полированную, но они были только трехсекционные… Я потом всю жизнь жалела.
Александр Петрович обнял ее еще крепче, и они снова заснули.
Курсант Антонов из второй роты долго ходил взад-вперед по прихожей, а потом Старик дал ему посмотреть фронтовой альбом. Антонов, как ребенок, открыл рот, залистал картонные страницы и утонул в фотографиях. Он не мог поверить в то, что бравый военный на снимках и Николай Николаевич – это один человек. Раньше ему казалось, что дети и старики – что-то вроде отдельных видов животных или явлений природы, существующие в своем неизменном виде, в специально отведенных для них местах. Как есть косули, облака и камни. Камень никогда не станет облаком, косуля не станет камнем. И посередине всего этого есть он, Алеша Антонов, собственно, человек.
А теперь получалось, что раньше Старик тоже был «собственно человеком», а сейчас стал тенью, дальше облаков, мертвее камней. Что тогда сделается с ним, с Алешей, когда его лик изменится и никто не узнает в новом старике теперешнего, настоящего Антонова? Никто, даже он сам? Кого нужно призвать в свидетели, чтобы его запомнили сейчас хотя бы немного похожим на себя? Кто и за что будет любить его в старости?
Антонов заснул, заложив пальчик между зимой сорок третьего и весной сорок четвертого, потому что в сорок третьем, в феврале, бомбой убило фотографа вместе с аппаратом и целый год потом героические события в полку никто не фиксировал, пока не выменяли ФЭД на мешок трофейного мыла.
На сцене оперного театра в это время заснул Герман и все офицеры, которые играли в карты. Конечно же, понарошку – по замыслу московского новаторского режиссера. Видимо, вследствие этого же замысла заснули многие школьники в зале. Педагоги не стали их будить, потому что хоть спать в театре, конечно, неприлично, но будить тех, кто заснул – больше шуму получится. Наступила полная и редкая гармония: кто хотел – смотрел спектакль, а кто хотел – наслаждался музыкой во сне. Паша примкнул к последним и тихо посапывал на шершавом бархатном кресле.
Ведь всегда так бывает, что кто-то хочет спать, а ктото – работать, вечно люди друг другом недовольны. И как здорово, когда спать в городе хочется всем.
Николай Николаевич сначала сидел на стуле, потом в кресле, потом «дышал воздухом» на балконе и долго ворочался в кровати. Но редкая, строгая человеческая трезвость не давала ему уснуть.
Он встал в коридоре перед зеркалом и, хотя почти ничего уже не видел, аккуратно поправил рубашку, галстук и ордена. Еще в отражении разглядел, что курсант спит, развернулся и беззвучно обошел его. Встал на стул, достал со шкафа завернутую в тряпку шкатулку. Вернулся в свою комнату, положил на стол. Тряпка была невзрачная и пыльная, но черная шкатулка – совершенно чистая, так что невозможно было определить, сколько лет она пролежала на шкафу, под старой и новой пылью.
Открыл крышку. Тронул металл. Взял пистолет в руки. Это был редкой красоты наградной ТТ, ладный, тяжелый, благородной вороненой стали. Долгие годы он хранился в хорошей смазке, так что – пришлось разобрать, вытереть, проверить. Патроны хранились отдельно. Как опытный и ответственный военный, Николай Николаевич знал, что в мирное время их нельзя держать вместе.
Он вышел из дома спокойной, уверенной походкой молодого человека. Если бы кто-то смотрел на него со спины, то ни за что не сказал бы, что это идет девяностолетний старик. Но улицы вымерли, люди спали там, где их застал сонный день, а те, что изредка встречались, плелись сомнамбулами, не обращая ни на кого внимания.
Подошел трамвай. Старик вскочил на подножку. Салон был пуст, он не стал садиться, а только взялся за поручень и уставился в окно. Сначала поплыли кирпичи обувной фабрики, потом темные-темные листья сквера, а потом появилась река, которой он не видел уже много лет и которая совсем обмелела, как будто ее не было вовсе.
Вторым не спавшим человеком, конечно же, была Лика. Каждую секунду она помнила о Старике и каждую секунду хотела убежать из театра. Сначала клялась: доделать грим – и рвануть. Потом спектакль начался, как магнитом потянуло к кулисам, и музыка, волшебная для зрителей, ей показалась страшной. Захотелось убить Пушкина с Чайковским за то, что все так медленно, что Графиня поет не сначала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





![Михаил Комаров - Прощай, молодость! [СИ litres]](/books/402124/mihail-komarov-prochaj-molodost-si-litres-thumb.webp)