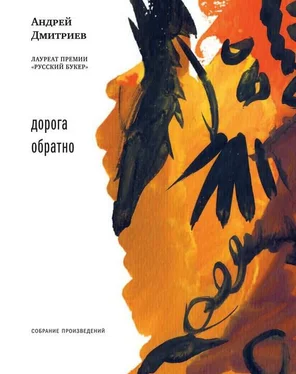Капитан брезгливо глядит ему вслед и тихо произносит:
— Розыск пока не объявляю. Дело не завожу и хода ему не даю. Ищи пока… Найдешь — дай знать. Не найдешь — извини. Тут тебе никто не поможет.
— Спасибо, — растроганно бормочет Снетков.
Отец мальчика скрывается из виду, и капитан улыбается:
— Хороший здесь воздух, доктор.
— Воздух чистый, — улыбается Снетков.
— Как полагаешь: где-нибудь в настоящих, в Карпатских горах, например, — там воздух еще чище?
— Думаю, значительно чище!
— Мне скоро в отпуск, — поясняет капитан. — Выходит, ты советуешь нам с женой махнуть куда-нибудь в Карпаты?
— Еще бы…
— Тогда посоветуй, на кого нам дочь оставить. Ни бабушек у нас, ни дедушек… Можно, конечно, взять с собой, но это, извини, не в кайф. Это работа, а не отдых.
— Сочувствую, — настороженно произносит Снетков.
— Правда? — радуется капитан. — Тогда пристрой ее здесь. Присмотришь за нею, укрепишь ее здоровье… А после отпуска, ты не бойся, мы ее заберем.
Снетков растерянно молчит, глядя в веселые, немигающие глаза капитана. Пытается возразить:
— Так не делается… Есть какие-то правила, есть порядок… Необходимо обследование, подходящий диагноз… И обязательно — направление…
— Вот и позаботься, чтобы все было по правилам, — торопливо и жестко заканчивает разговор капитан милиции Деев. — Обследования, какие нужно. Направление, откуда нужно. Ты же умный, позаботься… Я тебе позвоню. — Он пожимает Снеткову вмиг вспотевшую ладонь, идет, не оборачиваясь, к воротам и, прежде чем исчезнуть, аккуратно закрывает их за собой.
Ангел в бело-голубой одежде сидит на каменном кубе, не касаясь сандалиями черно-синей земли. Крылья его черны, подкрылья голубы, кольцо нимба на охряно-зеленом фоне когда-то было красным. В полусогнутой правой руке он сжимает тонкий, удлиненный посох или жезл. Левой, подав плечо вперед, указывает направо от себя: там парит над землей, невысоко, на фоне узких, зарешеченных черных ворот, белый кокон, свернутый в спираль, или же туго спеленутый младенец, но лицо младенца, едва обозначенное, едва проступающее из пелен, едва подчеркнутое маленькими запястьями, скрещенными под недетским острым подбородком, оттененное белым платком, облегающим лоб до самых сомкнутых, неспящих глаз, — лицо взрослое, скорее женское, суровое, как у умершей монашки…
— Ангел на гробе Христовом, — подсказывает мужчина в драповой куртке. — В сущности, копия, хотя и современная оригиналу: тоже тринадцатый век и, возможно, тот же мастер. Оригинал — в Милешевом монастыре, в Югославии… Вопросы будут?
— Нет, — осаживает его женщина в черном плаще.
Теперь она и без подсказки знает, что обращенный к ней неприветливый взгляд ангела суть его слова о Воскресении, догадывается, что белый, почти прозрачный парящий кокон, на который указывает ангел, — не младенец, не душа, не монашка и не Сам Воскресший, спеленутый Иосифовой плащаницей, но зримое значение слов ангела, обращенных к ней, его зримая весть о том, что Он Воскрес, — пытается услышать в себе эти слова, но не слышит ничего, кроме шума растревоженной алкоголем крови в голове, кроме неряшливых звуков шагов за своей спиной и нетерпеливого, капризного голоса воспитательницы:
— Хватит вам валять дурака. Я же говорила: его здесь нет.
— Построиться! Построиться! Построиться! Всем построиться! Построиться! Никитюк, все должны тебя ждать? Очень мило… Лерик, оставь его в покое, стой смирно… И ты оставь его в покое. И руки, руки из карманов! На меня смотри! И ты на меня смотри!.. Где Беневольский?.. Что значит «там»? Где это «там»? Круглова, приведи Беневольского, только бегом… Внимание, все ждем Беневольского! Тихо ждем. Я сказала: тихо!.. А теперь совсем помолчали. Помолчали, подумали и — не врать! Смотрим на меня, так; спокойно думаем, ясно отвечаем: кто видел Смирнова?.. Вопрос понятен?.. Молчим… Молчим, глазами хлопаем, очень мило… Вот и наш Беневольский, очень мило. Стань в строй… Так. Вынуждена повторить вопрос. Специально для Беневольского: кто и где видел Смирнова?.. Молчите?.. Боитесь и молчите… Боитесь сказать правду, боитесь сказать вслух — тогда скажите мне по секрету. Или я вам скажу по секрету: пока не приведете мне Смирнова — никакого ужина! И никаких черепашек! Никаких черепашек перед сном!
Возгласы воспитательницы, злые и унылые, как удары кровельного железа на холодном, пропахшем кухонной гарью ветру, приютский щебет перепуганных, сбитых в стаю детей отзываются в памяти женщины смутным эхом всех пережитых уныний и унижений, гонят ее прочь — в тишину разоренного монастырского сада, на пологий уступчатый склон, заросший диким шиповником, перемеженным мертвыми, обломанными яблонями… Она петляет, кружит между ними, то и дело скрываясь из глаз за высокими кустами; мужчина едва поспевает за нею и, не сумев догнать, скоро и вовсе теряет из виду ее черный плащ. Зовет, не зная имени, неловким «эй» и «ау», прислушивается, замерев, к сухому шороху ветвей и колючек, бродит средь них наугад и, наконец, находит ее в нижней части сада, возле самой стены, там, где запахи влажной земли и перепрелых листьев сильно приправлены кислым духом старой известки и мокрой кирпичной крошки. Не вынимая рук из карманов плаща, женщина сжимает их в кулаки, и взгляд ее недобр:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу