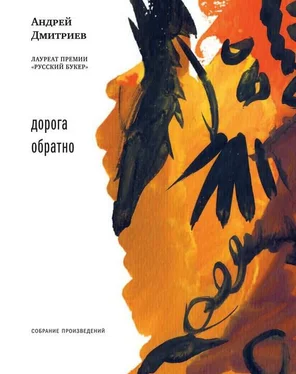Летом зачастила Левкоева со своими милиционерами; собирала людей в колхозном панкратовском клубе, всем непонятливым напоминала поименно, кто и сколько всего задолжал, а когда Роза Расуловна посмела усомниться вслух, Левкоева поймала ее на слове и велела:
— Коли ты такая грамотная — сама теперь и считай. Веди теперь всю бухгалтерию; с тебя теперь мы все и спросим.
Дома Роза Расуловна не пустила Серафима к столу, услала спать и, забыв, что он спит, кричала на Левкоеву, а та пила спирт, пела: «Там вдали за рекой…», «Полюшко-поле…», другие грустные песни, и, чем сильнее кричала на нее Роза Расуловна, тем громче пела пьяная Левкоева ей в ответ.
В сентябре, пасмурным теплым днем, Серафим возвращался в Сонгоду из панкратовской школы. Ему нужно было пройти обычные шесть километров: краем леса, переваливая через голые холмы, вдоль глубоких, грозящих слиться в один, кривых и долгих оврагов, и дальше, до самого дома — высоким берегом Двины… Он уже поднялся на свой любимый холм, последний в череде пологих и высоких холмов, и посмотрел на темную синюю тучу, нависшую прямо над головой, на немо шевелящиеся верхушки деревьев в далеком лесу за оврагом, как вдруг увидел Левкоеву: печатая сапогами размашистый шаг, она шла по самому краю оврага в своем всегдашнем распахнутом коротком пальто из шинельного сукна, грозно трясла папиросой в горсти и о чем-то — о чем, невозможно было расслышать с холма, — говорила сама с собой.
Не увидит, помаши ей рукой, чтобы и она помахала рукой в ответ; не услышит, если крикнуть ей: «Эй» и поздороваться, успел подумать Серафим еще до того, как далеко позади Левкоевой, из-за взгорка, поросшего сизым можжевельником, показалась рыжая лошадь, кивающая головой, бредущая шагом и тянущая телегу. Лошадью правил безбородый взрослый мужчина в телогрейке и кепке, не из сонгодских стариков, не из панкратовских инвалидов, но чем-то Серафиму знакомый, — правил, опустив вожжи и сидя на корточках посреди телеги… Прервав разговор с собой, Левкоева приостановилась, обернулась, досадливо плюнула и, не возобновляя разговор, продолжила путь. Расстояние между нею и лошадью понемногу скрадывалось. Левкоева сделала последнюю затяжку и щелчком отправила окурок в овраг. Наверное, устав сидеть на корточках, мужчина на телеге встал во весь рост, подобрал вожжи, затем вдруг ударил вожжами. Лошадь вскинулась головой и нервной рысью проскакала мимо Левкоевой, заслонив ее собою всего лишь на малый миг. Мужчина придержал лошадь, и она вновь пошла шагом. Мужчина вновь сел на корточки и дальше ехал, не оборачиваясь. Серафим провожал его взглядом, пока телега не скрылась за соседним, предпоследним холмом. Намереваясь спуститься с холма, он напоследок огляделся вокруг и, хотя ветер совсем стих, всею кожей ощутил неприятное ознобное жжение. Потом и ноги ослабли от страха. Левкоевой не было на краю оврага.
Пока снаряжали в Котлас человека с известием о гибели уполномоченной, пока рядили, поднимать ее со дна оврага или оставить ее как есть (решили оставить, лишь прикрыли мешковиной), пока Роза Расуловна отпаивала Серафима настоем пустырника, а он все бился в лихорадке, все норовил, как заведенный, рассказать ей вновь о рыжей лошади, о знакомом, но не узнанном мужчине на корточках, о том, как спустился в овраг, о Левкоевой на дне оврага, уткнувшейся лицом в мелкий ручей, об ее жемчужных бусах, разбросанных по дну ручья, об ее окровавленном седом затылке, — прошел день и пошел дождь. Он замутил и вздул ручей на дне оврага, измазал и, казалось, растворил в жидкой глине труп уполномоченной, успокоил и усыпил маленького Серафима, размыл дороги и надолго задержал грузовик с людьми из Котласа. Они смогли начать расследование лишь утром следующего дня.
Левкоевские и другие, не знакомые Серафиму милиционеры, совали ему слипшиеся леденцы и давали поиграть наганом. Хмурые люди в шляпах и плащ-палатках заглядывали ему в глаза, подолгу молчали и лишь изредка недоумевали вслух, как такой смышленый и взрослый товарищ не может поднатужиться и вспомнить имя умельца, направившего лошадь до того ловко, что конец оглобли угодил уполномоченной точнехонько в затылок. Серафима держали в панкратовском клубе, и Розу Расуловну к нему не подпускали, чтобы она не мешала ему как следует вспоминать. Вечером грузовик привез в Панкратово безбородых мужчин, собранных по всем окрестным деревням. Лавки и стулья в клубе расставили вдоль стен, и мужчин рассадили в три ряда, так, чтобы Серафиму было удобно глядеть в их лица. Старики, инвалиды и подростки из Костянова, Бонгоды, Панкратова, Хмельниковки, Сонгоды, Шапошницы, Талиц, Колкарева, Жилина, Шубина, Пухалина, Глебова и Коротцева сидели плечо к плечу и, полуприкрыв глаза, смотрели, как им было велено, прямо перед собой. Ряд за рядом и раз за разом Серафим глядел в их лица, поначалу испуганные и злые, потом усталые, равнодушные, и терялся, то в одном, то в другом, а то и в каждом из них все увереннее узнавая убийцу Левкоевой, но все не решаясь заявить об этом вслух. Время шло. Милиционер возле запертой двери вертел от скуки барабан нагана и улыбался. Люди в шляпах сидели верхом на стульях посреди клуба, не изъявляли нетерпения и даже подремывали. Женщины за окнами клуба поначалу тихонько причитали и всхлипывали, потом начали монотонно и громко выть. В лицах мужчин появилось нечто новое, смутившее Серафима. Черты их разгладились и успокоились; казалось, их посетила какая-то общая, непривычная, необычайно важная мысль; они, казалось, были теперь на все согласны, лишь бы их больше не теребили, лишь бы от нее не отвлекали, — и Серафим вдруг вспомнил разбитый бомбами вокзал Волховстроя, странные лица убитых пассажиров и свое тогдашнее неотвязное чувство, будто бы он, Серафим, где-то видел уже эти странные лица… Так вот где я видел их раньше, обрадовался он, ничуть не смутясь — и лишь много лет спустя озадачившись этим раньше , — потом поманил на улицу людей из Котласа и заявил:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу