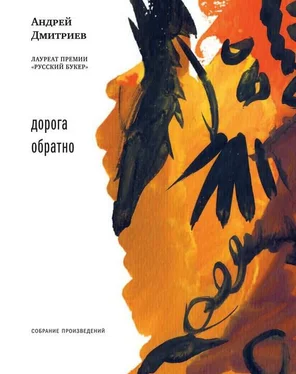Поезд из Москвы, точно такой же, что уходил на Москву, вот только номером — четный, да и не такой чистый, с запыленными, замасленными окнами и обтерханными в дороге занавесками, плавно подойдет к перрону, и проводницы откроют двери вагонов. В объятья встречающих вывалятся москвичи и погостившие в Москве земляки, распространяя вокруг себя завидный и сложный запах ночной дорожной попойки, утреннего мыла и одеколона. Из перетянутых ремнями и бечевой дорожных сумок интригующе дохнет Москвой: шоколадным отделом ГУМа, базарной хурмой, марокканской апельсиновой рощей, восхитительной колбасной или рыбной коптильней.
Спотыкающийся долгий звук, подобный перестуку вагонных колес на стыках, но не густой и тяжелый, а прозрачный, почти игрушечный, выводит Серафима из забытья. По-прежнему жарко. Слегка ломит голову после третьей уже, нет, четвертой бутылки пива. Серафим оборачивается на звук и в жарком, дрожащем, как желе, столбе пропеченного воздуха видит открытую дрезину, движимую электромотором, на ней — полуголого мужика в форменной железнодорожной фуражке, туго натянутой на иссиня-коричневый, облупленный крупный нос. Остановив дрезину, железнодорожник внимательно глядит Серафиму в лицо, с видимым безразличием спрашивает:
— Свежее?
— Теплое, — отвечает ему Серафим и, не зная, как стряхнуть с себя этот прищуренный долгий взгляд, предлагает: — Могу угостить.
— Догадливый, — взгляд из-под фуражки вмиг обращается к небесам, делается рассеянным и блаженным. — Могу подвезти, — в свою очередь предлагает железнодорожник.
— До самого моста?
— Да хоть бы и за реку.
Серафим отправляется в буфет, на остатки денег и свою пустую посуду берет пару пива и уже через минуту, сидя на краю дрезины, пробует щекой, ловит ртом и ноздрями встречный, ставший вдруг прохладным, пропахший мазутом и пылью, упругий, как ветер, воздух. Железнодорожник швыряет опустошенную бутылку в придорожный репейник; Серафим провожает взглядом ее полет; репейник, скамейка, перевернутая урна, штабель шпал в лопухах — скрываются из глаз, потом скрываются, проскальзывая мимо и уходя за плавный поворот, постройки депо, пакгаузы, серебристые емкости с горючим, грязные цистерны и «сидячие» пригородные вагоны, отслужившие свой срок, брошенные на проросших осокой запасных путях и проеденные ржавчиной насквозь; клюв водокачки проносится над головой, редкие облака стоят высоко в сизом небе, ястреб парит над окраиной.
Возле стрелки дрезина встает, пропуская вперед себя военный состав; под глухим брезентом на открытых его платформах угадываются танки, орудия и БМП; мирные часовые покуривают, облокотясь о брезент, высокомерно и отрешенно, как и покуривали они немирным летом сорок первого года, когда маленький Серафим и Роза Расуловна на последнем перед боями за город поезде бежали в Ленинград, потому что этот поезд уходил в Ленинград, а потом на другом, на последнем перед полной блокадой, поезде бежали из Ленинграда на Север, на Котлас, по совершенно не знакомому адресу, который В. В., отправляясь в свои военные штабы, оставил на крайний случай. Как только крайний случай настал, Роза Расуловна сумела телеграфировать по этому адресу незнамо кому и получила в ответ телеграмму на гербовом официальном бланке: «ЖДУ ТЧК ЛЕВКОЕВА ТЧК».
Ехали медленно, еле-еле, и, как теперь помнится, молча; если и говорили о чем в битком переполненных вагонах, то шепотом, как бы извиняясь; ночью не зажигали свет, но и не спали; на слишком частых остановках в лесу и в голом поле слушали тишину, то и дело принимая кваканье лягушек за всхлипы танковых траков, в прерывистом гудении крон и проводов угадывая гул чужих самолетов… У Волховстроя встали надолго, и пришлось выйти из вагонов. Там горел, клубясь и завывая, разбитый бомбами вокзал. Орущие друг на друга люди в фуражках и кепках, в разболтанных, со сбитыми набок пряжками, ремнях, упираясь ломами, жердями и обломками рельсов, обжигаясь о головни и дымящееся железо, сбрасывали с насыпи то, что осталось от предпоследнего поезда, на который, как много позже призналась Серафиму Роза Расуловна, она в Ленинграде пыталась пристроиться, но не смогла.
Под насыпью, в стороне, за придорожной болотной канавкой и редковатой полосой кустарника, в три ряда на траве лежали убитые пассажиры. Схватив Розу Расуловну за руку, Серафим глядел в их странные лица. Словно застигнутые врасплох какой-то непривычной общей мыслью, каким-то им одним открывшимся и только их удивившим зрелищем, в стороне и в отдалении от летучей копоти, ругани, железного скрежета и жара, освещенные мягким солнцем, они не выказывали страха, боли, обиды или жалости к себе, они, казалось, были на все согласны — лишь бы их больше не трогали, лишь бы не отвлекали от чего-то, настолько важного и интересного, что весь этот пожар и весь этот повальный бег для них попросту больше не существовали… Роза Расуловна пыталась его увести. Он молча упирался. Упрямо глядел в эти лица, все более убеждаясь, что их общее выражение ему откуда-то знакомо, силясь припомнить, где он видел раньше эти или точно такие лица, но Роза Расуловна больно потянула его за руку и увела прочь. Ее мутило, она говорила ему что-то вроде не вредничай, не выводи меня из себя , потом начался налет, и они бежали, беспрерывно крича, чтобы слышать и не терять друг друга, в болотистый лесок неподалеку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу