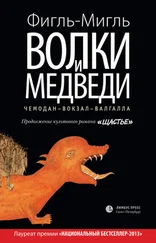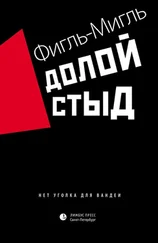Предварительной цензурой занимался авторитет: сперва церковь, потом МВД. Большому кораблю — большое плавание. Слово относилось к себе серьезно, и власти относились к нему серьезно; миропомазанники не брезговали читать, править и давать советы. Конечно, не всякому государь скажет: “Я сам буду твоим цензором”, но ведь и не всякий — гордость нации; Люцифер небось тоже не таскается лично по каждую грешную душу. Для небесспорных жертв Аполлона существуют начальники соответствующего ранга, эти начальники — сами чьи-то подчиненные. И всем нелегко.
Ну вот, приносите вы свои бумажки начальству. (То есть вы их приносите своему издателю, который для вас тоже нечто в виде командора, а уж издатель несет дальше, предварительно, в провидческом раже, заставив автора все изгадить.) Начальство заглядывает в Свод законов. “Обыкновенные правила цензуры суть: почеркивать, марать, не дозволять, драть, жечь все то, что противно естественной религии и откровению, все то, что противно правлению; всякую личность, противную благонравию, устройству и тишине общей”. Это Радищев. И это почти то же самое, что будет написано в первом нашем цензурном уставе 1804 года, § 15:
“Цензура наблюдает относительно пропускаемых ею к печатанию сочинений, чтоб ничего не было в оных противного закону божию, правлению, нравственности и личной чести какого-либо гражданина”.
Кстати, весь предыдущий год члены главного правления училищ обсуждали вопрос о применении к России датского устава карательной цензуры, с взысканием по суду за нарушение ее правил, но кончили все же тем, что ввели обычную предварительную. А что было до этого? До этого были при Павле — смешанные, то есть церковно-светские, цензурные комитеты, при Екатерине — местные управы благочиния (“Может ли полицеймейстер палошник судить о науках и художествах?” — верещат литераторы, но и “палошник” не рад, особенно если художество попадается иностранное: “Отправлять полиции цензуру книг весьма неудобно ‹…› Полицеймейстер хотя и знает французский язык, но никогда на чтение книг себя не употреблял”). Еще раньше Синод наблюдал за чистотой “богословских писем”, не забывая заботиться о чистоте нравственности вообще — посредством живого интереса к вопросам астрономическим, историческим и тому подобным. А до Синода — катоновская простота нравов в местном колорите… история, если подумать, коротка — все близко, все под рукой.
Хорошо; в 1804 году отеческое попечение обрело черты солидности. Есть цензурные комитеты, главное управление цензуры, устав. Дел по горло: устав время от времени нужно переписывать, комитеты — реорганизовывать. Литераторы полны надежд и еще помнят, что, “когда место, подверженное сомнению, имеет двоякий смысл, в таком случае лучше истолковать оное выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследовать”.
В этой системе была бы если не справедливость, то хоть стройность, не будь таких вещей, как ведомственные интересы и личные трусость, глупость, злая воля. (И если бы Свод законов был настольной книгой не только цензора.) Честь мундира, привычка использовать власть в личных интересах и способность любого урода печься о благе общества, соединившись, сделали цензуру в XIX веке смешной, а в XX, когда был воскрешен обычай уничтожать не столько книги, сколько авторов, — страшной.
Ведомственные интересы — что ж, это еще не горе. Министерств много, и никому не улыбается хоть в чем-то подчиняться Министерству просвещения. Каждое придумывает собственные правила и заводит свой комитет. Одних только официальных видов цензуры — от духовной до цензуры сочинений о Царстве Польском и Великом Княжестве Финляндском — Никитенко насчитал двенадцать, а плюсуя к ним мнение и подвиги каждого ретивого генерала, можно навсегда возненавидеть арифметику. Цензурный устав 1826-го прямо требует согласия соответствующего министерства на публикацию любых профильных материалов. (Все это перешло по наследству советской цензуре: скажем, без разрешения Министерства здравоохранения нельзя было публиковать “данные о численности больных туберкулезом, брюшным тифом, паратифами, лепрой, кожными, грибковыми, венерическими, психическими заболеваниями и алкоголизмом”. А разве Министерство здравоохранения себе враг? Или у Министерства здравоохранения нет самолюбия? Какой-нибудь пакостник тиснет по случаю холеры безответственные стишки, а министерство страдай: “Автор этих стихов, по-видимому, имел зловредные стремления, постаравшись сообща с простонародьем представить врачебный факультет в несимпатичном виде”.) Да, но это не горе — вернее, это горе для адептов честной статистики и той части интеллигенции, которая профессионально имеет идеалы. И если цензор имярек немножко того — тоже не беда: бережно относясь к собственной нервной системе, любого негодяя можно пережить. Чего ни один Мафусаил не переживет, так это преемственного отеческого попечения подлецов о дураках. Уж сразу и подлецы! Во-первых, они из лучших побуждений, а во-вторых, кто-то все равно должен. Это почему? Почему-почему, про панургово стадо помните? Ну прекрасно; ваш дивный пируэт приводит нас к тому, с чего мы начали: человек, общество, государство, балет в трех соснах. Знаете, еще немного — и мы обременим себя проповедью анархии, а пока учтите, что за панургово стадо всерьез никто никогда не заступался (за него заступишься, а оно на тебя наступит), и даже Радищев в расчет брал не его, а так называемое общество, то есть людей по меньшей мере грамотных и труждающихся не посредством землепашества:
Читать дальше