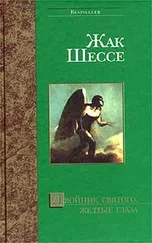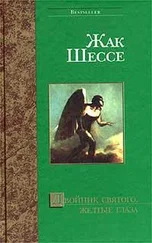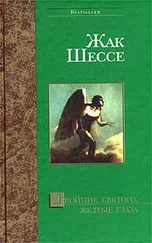"Марсель. Гроб, покрытый черным покрывалом с золотой бахромой, ставится на катафалк в центре большого зала со скамьями, где могут разместиться двести человек. Удобно расположенная кафедра позволяет выступающим быть услышанными во всех уголках помещения.
Музыкальное сопровождение здесь не принято. Гроб переносят на руках в соседнее помещение, где находятся печи.
После этого присутствующие могут удалиться, но могут также и подождать (примерно час), чтобы получить урну с прахом, либо в самом помещении крематория, либо рядом с ним, на прилегающем кладбище. Урна, прикрытая погребальным покрывалом, вывозится на небольшой тележке и помещается в колумбарий или доставляется в любое другое место, по желанию близких…"
* * *
Ну, это уж слишком! Жан Кальме яростно скомкал двойной хрустящий листок и швырнул его в угол веранды, за цветочные горшки.
— Что с тобой? — робко спросила мадам Кальме. — Тебе это неприятно?
К чему отвечать? Ему стало стыдно за свое раздражение. Он гневно смотрел на старую сгорбленную женщину, страдая от сознания, что она его мать, что она скоро умрет, что ее тоже сожгут и обратят в пепел, а он так и не успеет высказать ей хоть частичку того, что долгие годы тяжким грузом лежало у него на душе. Догадывалась ли она сама, что его гнетет? Понимала ли своим материнским сердцем тоску, гложущую ее «младшенького», его страхи, жажду любви, по которой изголодались его душа и тело? И Жан Кальме сделал то, чего никогда не совершал, на что никогда не осмелился бы раньше: встав, он подошел к матери, поднял ее с кресла и крепко, судорожно обнял это крошечное нелепое хрупкое существо; она не сопротивлялась, не шевелилась, замерла в его объятиях и только задышала чуточку громче, напомнив Жану Кальме легкое дыхание Терезы под золотистым покрывалом.
«Ты тоже была когда-то Офелией, — думал он, сжимая худенькое тельце матери, — ты тоже очаровывала, соблазняла, укрывала в своих объятиях, ты тоже была Цирцеей, Мелюзиной, Морганой, всеми этими юными феями, а нынче превратилась в мешок костей, и лицо твое избороздили морщины!»
Внезапно Жан Кальме вспомнил о пансионе Корбейрие, где он в раннем детстве провел несколько недель вместе с матерью. Постояльцы собирались в чистенькой столовой с низкими потолками и рассаживались на соломенных стульях; дамы и их болезненные, вечно простуженные дети играли в карты за столом, рядом с остатками ужина, золотистыми корками хлеба и недопитым кофе с молоком. Папа присылал им открытки из Лютри. Утром 1 января хозяин подстрелил бродячего кота на заснеженном дворе пансиона. Он долго целился, прежде чем нажать курок. Жану Кальме было всего семь лет, он не мог отвести ружье в сторону; пиф-паф, и кот с простреленной грудью рухнул на обледенелый гравий, его схватили и швырнули в мусорный бак, стоявший у дверей. Всю ночь Жан Кальме кашлял. Мать вставала и, поскольку плита уже остыла, давала ему холодный грудной чай. Мальчику снилась рекламная афиша сигарет «Плейере» — женщина-кукла, белокурая, розовощекая, среди сверкающих сугробов, — такие лица и сегодня еще можно видеть у манекенов, в дешевых магазинчиках готовой одежды. После дневного сна девочка, его ровесница, сидела, как и он, на горшке, не закрывая двери своей комнаты. Жан Кальме ждал конца церемонии с туалетной бумагой, надеванием шерстяных штанишек и теплых рейтузов…
— Ты сердишься из-за газеты? — спросил робкий голосок. Жан Кальме скорее угадал, чем услышал этот вопрос по дрожи слабого материнского тела.
Нет, он не сердится. Просто он был шокирован, удивлен. И хватит об этом! Близость хрупкого тела с торчащими лопатками и птичьими ребрышками преисполнила его тоской другого рода. Нагнувшись, он коснулся поцелуем лба матери, изрезанного тоненькой сеткой морщинок. Прядка седых волос кончалась неожиданно кокетливым завитком, который неприятно пощекотал ему губы.
— Знаешь, с тех пор как сожгли папу, я узнала массу вещей, о которых раньше и слыхом не слыхивала. Вот я и вступила в это общество — подумала, что скоро мне это пригодится.
Пауза. Обнявшаяся пара — мать и сын — все еще стояла посреди веранды, в меркнущем закатном свете дня.
— Ты останешься поужинать?
Ее голос дрожал. В нем слышались умоляющие нотки — мать не надеялась на согласие:
Жан такой нелюдимый, вечно убегает, скрытничает, еще в детстве она прозвала его котенком, который гуляет сам по себе… Бедный старческий голосок. Бедный сутулый скелетик, бедное просящее лицо, бедный взгляд, налитый слезами и выцветший за годы трудной рабской жизни.
Читать дальше