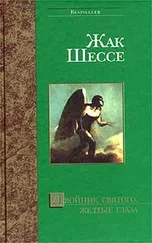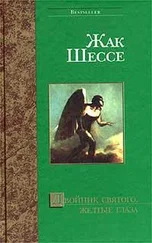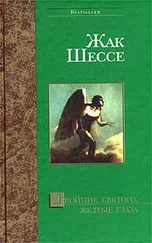Он никогда доселе не знал ее, эту женщину. И до чего же ему теперь было жаль ее! Она ведь также — нет, куда больше, чем другие! — страдала от гнета тирана, который сломал, изничтожил ее. Она молчала об этом. Но ее скорбная улыбка о многом говорила. Ни разу в жизни она не пожаловалась на доктора, который ушел, бросив ее опустошенной, как город после вражеского набега, И теперь у нее остались только альбомы со старыми фотографиями.
Она не плакала. Просто сидела в своем кресле, с альбомом на коленях, устремив застывший взгляд в окно, где ей виделось не настоящее, а призраки, населявшие ее прошлое. Жалкая судьба одинокой самаритянки. Сестра милосердия, забытая в дальнем углу покинутого госпиталя. В эту минуту на Лютри спускались сумерки, и она, верно, сидела на своем обычном месте, перед остывшим чайником, под бьющими в глаза лучами закатного солнца, слепо глядя перед собой. Мадам Жанна Эме Кальме, урожденная Росье. Она родилась в деревенском захолустье у подножия Юра, служила на фермах, затем, покинув луга и коровники, стала служить его отцу. Жанна, мои очки! Жанна, мой саквояж! Моя трость! Мой кофе! Эти чертовы дети — ты даже не способна их воспитать как следует! Это чертова стряпня — не надейся, что я приду обедать. Но жди меня. Ты для того и существуешь, чтобы ждать меня, Жанна.
Твои руки мешали суп, жарили мясо, открывали бутылку вина, а я не приду. Куда захочу, туда и отправлюсь. Здесь я хозяин. Здесь я вскрываю животы, копаюсь в кишках, режу и зашиваю. Здесь я угрожаю, утешаю, врачую, подаю надежду, бодрствую, чтобы преградить доступ смерти. И пока я здесь, она не осмелится войти, бедняга! Стоит мне появиться, как она отступает, уползает в свою нору! А я режу и сшиваю, щупаю и вправляю, вырываю и приставляю, я неутомимый солдат, наемник, легионер здоровья; эй ты, старуха с косой, убирайся прочь, я тебя не боюсь! А вы, нытики злосчастные, оставьте меня в покое с вашими гонорарами и жалобными взглядами, тут я командую, я распоряжаюсь, я воюю со смертью, а ваше дело — ждать меня и слушаться беспрекословно. Жанна собирает со стола нетронутые блюда и в одиночестве ложится в широкую постель. Жанна проводит лето в ожидании доктора, который воюет со смертью Бог знает где. Дети возвращаются домой и снова уезжают, лето кончается, уступая место мокрой осени, озеро пахнет гнилой рыбой в преддверии зимы, Жанна готовится праздновать Рождество и Новый год, рассматривает старинные фотографии.
Жанна Кальме. Моя мать. Я был ее любимчиком, ее «младшеньким», ее утешением и радостью. Ее зеленой травкой. Глотком свежего воздуха. Но вот пришел мой черед, и я тоже сбежал из «Тополей». Надо будет почаще наведываться туда. Ее утешение. Ее радость. Я переживу ее. Она умрет в спальне, на широкой супружеской кровати — крошечная, затерявшаяся среди подушек, белоснежных подушек из ее песенки. Прощай, мама, прощай, юная нежная девушка из заснеженной горной деревушки! Тебя сожгут. И будут все те же цветы, все те же венки, что в сентябре месяце. И те же сочувственно-скорбные лица. И та же закуска в кафе «Покой» — белое вино, чай, булочки, а неделю спустя, в один прекрасный вечер, твои дети соберутся в «Тополях» за столом, вокруг каталога похоронного бюро, чтобы выбрать тебе урну. Прощай же, мама, кроткая обитательница суровых гор Юра; ты дрожала, идя в церковь, и небо рухнуло тебе на голову…
* * *
В январе начались занятия.
И педагогические конференции, и стопки тетрадей на проверку. Скучная школьная рутина.
Прошел месяц. Ничего нового. Затем наступило 21 февраля, и Жан Кальме встретил Кошечку.
И он понял, что на него снизошел дух Диониса.
Было пять часов пополудни.
С порога «Епархии» Жан Кальме увидел Кошечку, сидевшую на его любимом месте. Он шагнул было к ней, словно собирался подсесть к ее столику в уютном уголке, у окна, где всегда такой мягкий приятный свет. Кошечка! Она не смотрела на него. Но он тотчас нарек ее этим именем; так повелела неведомая магическая сила, мгновенно погрузившая его в таинственное и безумное ликование дионисийских мистерий. На незнакомке была желто-белая шубка кошачьего меха; распахнутый ворот позволял видеть путаницу ожерелий на груди. Ее волосы сияли под желто-белой вязаной шапочкой. Золотые волосы, бронзовые волосы. Она вязала что-то из белой шерсти, склонившись над своей работой, и несколько колец, которые она сняла, чтобы они не мешали, посверкивали камешками и темным серебром на красной скатерти, рядом с недопитой чашкой молока.
Читать дальше