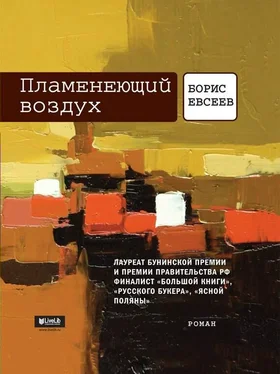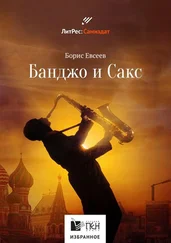Развлекая нас смешными и нелепыми вещами, Савва украдкой вытирал слезы. Может, мои слова про бунт эфира вспоминал.
К моему предполагаемому переходу в эфир он привык не сразу.
Так же, как не сразу понял красоту и прелесть Ниточкина увечья, не сразу понял весомость и полноту отсутствия одной из рук! Может, поэтому, когда впервые вошел в больничную палату — вздрогнул и отвернулся. Но потом привык, разошелся, этим отсутствием тоже воодушевился…
После ухода Лукича мы с Ниточкой всегда переглядываемся и посмеиваемся. А потом, перебивая друг друга, начинаем говорить вслух одно и то же:
— Если эфирный ветер и эфирный мир существуют, если восстанавливают в неплотном виде все оставленные на земле тела…
— …если переводят грубое мясо и кости в бесплотное существование…
— …то твоя, Ниточка, рука, конечно, будет всем на зависть восстановлена!
— Так что подождем, а потом восстановлению от всего сердца порадуемся.
Именно эта ожидаемая радость притирает нас друг к дружке все тесней. Именно Ниточкин изъян делает нашу любовь пронзающей, огнелетучей!
И хотя Савва до последнего времени неотступно звал нас в Москву, мне (до этих самых злополучных семидесяти двух часов) никуда из Романова уезжать не хотелось. Не только на месяц — вообще никогда! Здесь Рома беленький, здесь великодушные овцы и не по-московски щедрые люди…
И пусть я до сих пор по вечерам пугаю Ниточку словами Пенкрата про полное отсутствие эфира, она на эти слова только лукаво посмеивается.
А когда мы гасим люстру, чтобы при свете малосильного ночника заняться все больше восхищающей нас любовью, Ниточка, приподымаясь на постели, всегда вслушивается в гудящий за окнами ветер.
Ее изуродованная, отнятая по самый плечевой сустав рука нежным алым отростком горит во тьме. Непоколебимая грудь матово белеет.
И тогда — после недолгого вслушивания — мягкий, трепетный, а вовсе не вихреобразный эфир начинает свой путь и разлет! Дыхание великой волжской, питающей всю русскую равнину сладкой печали соединяется вдруг с эфирным ветром.
— Слышишь, как свистит ветер, Нит? Это притягивает и зовет нас, постукивая в окна, Великий Эфир, пятая сущность, квинтэссенция жизни!..
* * *
Что я тут наговорил — начиная с похорон Ромы — все это поэзия промедлений и прочие словесные оттяжки.
А срок, обозначенный Трифоном и поддержанный Саввой, — он ведь здесь: подкрался, стоит в дверях, никуда, стервец, не уходит!
Еще третьего дня, у себя дома, Трифон сказал мне:
— Лучшее время для перехода — первые числа ноября или середина декабря. Осталось недолго. Нужно успеть подготовиться.
Вчера и позавчера я еще как-то надеялся, что эти назначенные Трифоном ноябрьские (а если оттянуть — декабрьские) дни вообще никогда не наступят. Глупо, но так думал.
Срок, однако, наступил.
И вот я сижу один в нашей прихожей, во втором этаже дома на Второй Овражьей. Ниточка посапывает в спальне.
Через полчаса выходить. На улице темно. Волги не видно. Верней, чуется на месте великой реки тихо клокочущая густая темень.
Самое главное я уже сделал: оставил Ниточке записку.
В ней всего шесть слов.
«Было классно. До встреч в эфире!»
Ну и поскольку главное сделано — сижу себе, думаю о пустяках. К примеру, про птицу, о которой говорил три дня назад Усынин и которую обещал взять с собой. Сперва я думал, Трифон шутит, называя птицу «красный кречет». Стал его даже подкалывать: «Вы живую птицу в красный лак окунули?».
Но вчера заглянул в энциклопешку — есть! Существует именно наш, северный, красный кречет!
Это почему-то меня взволновало. Без всяких причин. Я представил себе Трифона с красным кречетом на плече, и мне сперва стало сладко и хорошо, а потом кречета стало жаль: ему-то в эфир зачем? Ему и тут, на северах, раздолье! Летай себе и летай. Переждал Горыча или Моряну, кинулся вниз, ухватил кого надо — и опять ввысь!
Тут же, без всякого перерыва стал я думать про «эфирозависимых», которых Трифон тоже готовил к великой откочевке, а если без иронии — к великой трансформации, и про которых сообщил, что они уже на базе, готовят для нас все необходимое.
Я тогда не удержался, спросил:
— Дезодоранты обоняют? Парфюмы лижут? Ну, в ожидании чистого-то эфира?
— Не употребляют они теперь, — ответил Трифон. В голосе его послышалась суровость, и шутить про нюхоманов мне больше не захотелось.
Только про Вицулу еще спросил.
— Вицула наш много о себе понимать стал, поступил куда-то фельдшером, — нехотя сознался Трифон…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу