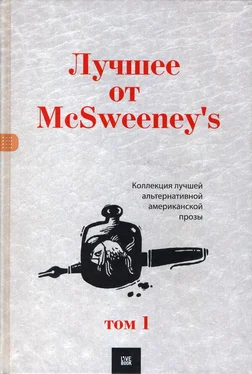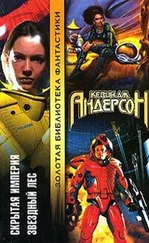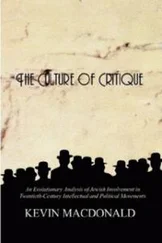Спустя несколько недель сараевский корреспондент белградской газеты «Политика», которой вскоре суждено было стать органом режима Милошевича, получил анонимное письмо, описывающее празднование дня рождения в квартире известного сараевского семейства, где выставлялись напоказ фашистские символы и превозносились ценности темнейшего из известных в истории человечества периодов. По Сараево, всемирной столице сплетен, поползли слухи. Боснийские коммунистические власти, часто плясавшие под дудку Белграда, конфиденциально, на закрытых партсобраниях, инструктировали своих работников. На одном из таких собраний оказалась моя мама и едва не получила разрыв сердца, узнав, что ее дети были на той вечеринке. Вскоре сараевские средства массовой информации были завалены письмами обеспокоенных граждан, кое-кто из которых явно подрабатывал на полставки в госбезопасности, единодушно требующими, чтобы имена людей, причастных к организации в Сараево фашистского митинга, были преданы гласности, и чтобы раковая опухоль была удалена из тела социализма незамедлительно и безжалостно.
Под давлением лояльной публики фамилии были в конце концов опубликованы: радио и телевидение наперебой передавали их в январе 1987 года, а газеты напечатали список на следующий день, для тех, кто не успел расслышать его накануне. Граждане принялись организовывать спонтанные собрания, на которых составлялись письма, требующие сурового наказания. Студенты университета проводили спонтанные собрания, где припоминали декадентские перфомансы в клубе «Volens-Nolens» и делали выводы в духе «куда катится наша молодежь». Ветераны войны за освобождение Югославии проводили спонтанные митинги, где выражали свое твердое убеждение в том, что в наших семьях вовсе не ценится труд, и требовали наказания пожестче. Мои соседи отворачивались при встрече со мной; мои однокурсники бойкотировали урок английского, если я являлся на него, а преподаватель тихо рыдал в углу. Кое-кому из друзей родители запретили видеться с нами — теми самыми девятнадцатью с нацистской вечеринки, как нас называли. Даже те, кто присутствовал на проклятой вечеринке, избегали встречаться с остальными, и моя подруга не была исключением. Я смотрел на дело, как будто читал рассказ, в котором один из персонажей — отвратительный ублюдок-нигилист — носил мое имя. Его жизнь и моя жизнь пересекались, внахлестку перекрывая друг дружку. В какой-то момент я стал сомневаться в истинности своего существования. Что если, думал я, только я вижу мир таким, каким он в действительности является? Что если моя реальность — это чья-то выдумка, а не его реальность — моя выдумка?
Исидора, в доме которой состоялся обыск с конфискацией всех ее бумаг, сбежала в Белград, чтобы никогда не вернуться, но некоторые из нас, тех, кто остался, объединили свои реальности. Гога после удаления аппендикса лежала в больнице, и медсестры издевались над ней, а Гуса, Веба и я сдружились теснее, чем когда-либо. Мы ходили на спонтанные митинги в призрачной надежде, что наше присутствие каким-то образом поможет восстановить справедливость, объяснит, что все было неудачной шуткой, и что, в конце концов, никого не касается, чем мы занимались на частной вечеринке. Различные патриоты и борцы за социалистические идеалы играли на этих собраниях все те же роли плохих и хороших следователей. На партсобрании, на которое я ввалился без приглашения, потому что никогда не был членом партии, некий Тихомир (чье имя можно перевести как «тихий мир») разыгрывал роль плохого следователя. Он завопил на меня: «Ты надругался над прахом моего деда!» — а когда я предположил, что это звучит попросту смешно, выпучил на меня глаза и застонал, а секретарь собрания, красивая девушка, непрерывно повторяла: «Тихо, Тихомир».
Партия, меж тем, наблюдала за нашим поведением. По крайней мере, так сказал мне человек, по поручению Обкома партии явившийся ко мне домой с проверкой. «Будь осторожен, — сказал он отеческим тоном, — за тобой пристально наблюдают». В мгновение ока я понял Кафку. Много лет спустя этот человек пришел к моему отцу покупать мед (в то время отец беззастенчиво торговал медом у себя дома). Он не стал обсуждать ту вечеринку, сказал только: «Такие были времена». Он сказал, что его двадцатилетняя дочь хочет стать писателем, и показал мне ее стихотворение, которое гордо хранил в бумажнике. Стихотворение оказалось черновиком предсмертной записки, в первой строчке, которую я прочел, значилось: «Я не хочу жить, потому что никто меня не любит». Он сказал, что дочь стесняется сама показывать ему свои стихи, она просто разбрасывает их по дому, как будто случайно, чтобы он мог их найти. Помню, как он уходил, нагруженный ведерками с медом. Надеюсь, его дочь до сих пор жива.
Читать дальше