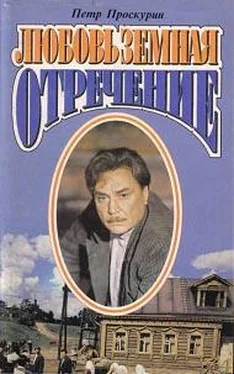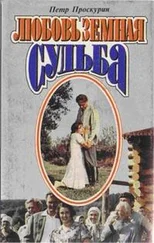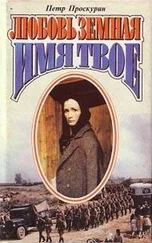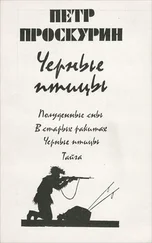И тотчас настроение у нее вновь переменилось, и она, взяв его за руку, повела, а за ними, озабоченно что-то бурча себе под нос, заторопился и старик Никишка; догнав их и поравнявшись с Петей, приноравливаясь к его шагу, сбоку и снизу вверх заглядывая ему в глаза, сказал:
— Слышь, парень, ты ей не верь, она всякого намелет, лишку зажилась на свете, блазнится ей, все блазнится… Вишь, Игнат к ней приходил, вон чего ей приблазнилось! Как же, жди, придет! Не верь… не верь… слышь, парень… не верь… Ничего ей не верь, жила долго, свое понятие отжила…
Не отпуская Петю, Фетинья шла одним ей ведомым путем, ни разу не остановившись; миновали улицу из бетонных глыб, и лишь каменные руки, сколько Петя ни оглядывался, по-прежнему тянулись во все больше густевшую и темневшую синеву неба. У старухи словно прибавилось сил, движения ее обрели уверенность, лицо разгорелось, глаза прояснились, и лишь дышала она хрипло, с надсадой, и по лицу пошел крупный пот. Еще издали Петя увидел наполовину разрушившийся и все равно поражающий толщиной ствол старого дуба; сучья с одной стороны у него, захваченные каким-то недугом, обескорились, побелели, иструхли и бессильно обвисли, на земле валялись полусгнившие их остатки; другая же половина дерева еще густо зеленела. Петя пригляделся: метрах в четырех от земли дуб разделялся на два ствола, и вот один из них, обращенный к югу, умер, второй же, северный, не тронутый порчей, бугрился сильной корой, и раскидистая его крона шумела высоко в небе.
Фетинья остановилась у дуба и некоторое время осматривалась; Петя молча ждал рядом, с какой-то новой заинтересованностью отмечая любую подробность вокруг.
— Я вот здесь с дитем на руках бежала, а Никишка, убивец, за дубом стоял. Он в полицаях служил, а здесь в оцеплении стоял, как немцы людей жгли в складе-то. Вот я на него и набежала, — значительно сказала Фетинья, обращаясь к Пете, и по ее глазам, в упор устремленным на него и ничего не видящим, Петя понял, что она действительно принимает его за кого-то другого; Петя коротко и неловко взглянул на старика, уставшего от непривычно быстрой ходьбы и часто дышавшего открытым беззубым ртом; его обтянутые сероватой кожей ключицы высоко поднимались и опадали; он порывался что-то сказать, не мог, задыхался и со злостью смахивал пот с лица сильно заношенным рукавом рубашки.
— Ты слышишь, слышишь? — неожиданно горячо и хрипло зашептала старуха, вновь хватая Петю за плечо, и в ее глазах плеснулся темный ужас; Петя постарался высвободиться из ее рук и не мог. — Слышишь, они… они… гонятся… трещит! Трещит!
— Успокойтесь, успокойтесь, — сказал Петя, — я ничего не слышу… вам просто кажется — в лесу никого больше нет… Вот только мы трое, уверяю вас… да, да, никого нет, — повторил он, не в силах выдержать слепой, уходящий взгляд старухи, не верившей ему, вероятно вообще не слышавшей его и занятой только своим; вотчина деда Захара, зежская лесная глухомань на этот раз раскрывала перед Петей нечто совсем уж сокровенное, окончательно принимала за своего, и у него от этой неожиданной мысли проснулось и окрепло почти физическое чувство общности и сопричастности с происходящим. Он, разумеется, знал, кто такой «полицай», но до этой встречи для него это понятие было чем-то далеким, отстраненным и даже нереальным; у него уже сложилась своя теория, и он любую жестокость стремился объяснить не физической природой самого человека, а стечением обстоятельств его жизни, и вот сейчас он встал в тупик при виде этих двух немощных, умирающих стариков, совершенно случайно встретившихся ему в лесу, полных неутихающей ненависти друг к другу.
— Я Дуняшу несу, а у нее ноженьки-то головешками, она криком кричит, заходится, а этот убивец из-за дуба — шасть, и стоит с автоматом! Слышишь, слышишь? — Старуха с расширившимися, остановившимися зрачками настойчиво трясла Петино плечо. — Слышишь, кричит… кричит! А Никишка, убивец, держит! Схватил и держит!
— Брешешь, ведьма! — не выдержал старик. — Не могла она кричать, мертвую ты волокла с собой! Я тебе зарыть ее помог!
— Убивец ты, душегуб!
— Никого не убивал и тебя тогда пропустил! — тихо сказал старик с отчаянием и безнадежностью в голосе. — А свою вину я в штрафбате отпахал, сама знаешь! Там один закон был — до первой крови! Гляди! — задрал старик подол рубахи, и Петя увидел его впалый живот и тощую грудь, сплошь уродливо обвитые шрамами. — Лучше в я тогда подох, все одно жизни не было. Один сын и тот на край света забился, отца с матерью видеть ему тошно… Его бы на мое место тогда, в сорок первом, я бы еще поглядел…
Читать дальше