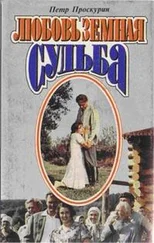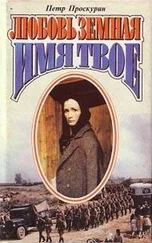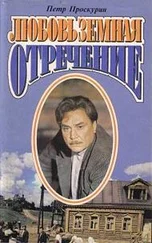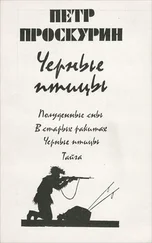— Сам ты думаешь что-либо предпринимать?
— С какой стати? Упаси Бог! Сестра и без того на меня волком смотрит, заел ее драгоценного. Давай, Клим, — поднял он свой приземистый фужер. — За нашу дружбу! Долгую, давнюю, верную дружбу, Клим!
Какое-то легкое облачко набежало на лицо Климентия Яковлевича, какое-то усилие почувствовалось в глазах, тихая, внутренняя борьба отразилась в них — словно он хотел что-то вспомнить и не мог. Он даже что-то прошептал про себя раз и другой. И тогда Одинцов, помогая ему вернуться к делу, потянулся к нему чокнуться, и они размашисто, даже с каким-то молодчеством, словно разгулявшиеся студенты, выпили; Климентий Яковлевич поморгал, расслабленно откинулся в кресле и, впадая в очередной приступ откровенности, доверительно сообщил:
— Знаешь, Вадим, а я тебя люблю! И зятя твоего люблю. Я неравнодушен к талантливым людям… Что это я такое говорю? Опять в голове провал — ничего не могу вспомнить, словно я тебя и не знаю, вроде бы мы и не работали столько лет рядом — туман и туман. Гляжу на тебя, а вспомнить ничего не могу…
— Бывает, у меня тоже бывает, — стал успокаивать его Одинцов, и оба обрадовались этому новому открытию и решили еще выпить и за него.
Разъехались они довольные друг другом и теплым, сердечным вечером, правда, с легким, забавным происшествием, пощекотавшим нервы. И все-таки через час, отперев железную калитку собственным ключом, Одинцов, уже совершенно трезвый и сосредоточенный, стараясь не шуметь, проскользнул в институтский двор и, отступив в сумрак больших старых каштанов, прислушался. Он сейчас физически ощущал тяжесть затаившегося за деревьями массивного здания института, связанного с ним, с уже пожилым и уставшим человеком, бесчисленным множеством живых нитей. Держась в тени, он подошел ближе и оторопел: в одном из окон нижнего, полуподвального этажа горел свет, — именно там, в этом этаже, размещался богатейший институтский архив. Сжав зубы, Одинцов вздрогнул — до того ему захотелось увидеть все происходящее за освещенным окном. Усилием воли он заставил себя опомниться, припал спиной к какому-то корявому толстому стволу и, выждав минуту, поднял глаза. Никакого освещенного окна уже, разумеется, не было; заставив себя усмехнуться, он опустился на большую чугунную скамью возле клумбы, сильно пахнущей ночным горошком.
Некая новая неустроенность овладела мыслями ученого, и он с пугающей зоркостью души увидел завершение. Пришла странная раздвоенность чувств, — он почти болезненно ощущал текущие через него и бесполезно уходящие драгоценные минуты, предназначенные (он был убежден в этом) для самой важной цели в его жизни, и он досадовал на себя за свою расслабленность и медлительность. В то же время некий внутренний трезвый голос пытался вразумить его уже совершенно в ином — в его серьезном нездоровье и в необходимости поскорее вернуться домой, раздеться, выпить чаю и снотворного, лечь в постель и не забыть попросить Степановну наутро вызвать врача. Несколько раз порываясь встать, он никак не мог решиться на последний шаг, хотя продолжал жить исключительно собой и окончательно овладевшей им жаждой предстоящего и близкого духовного обновления, — теперь только оно, это странное и всесильное чувство, владело и двигало им, ведь именно оно и привело его в столь неурочный час во двор института. Слегка шумели вершинами древние деревья, ветер, гулявший над Москвою, обрывал с них остатки листвы. Четкие ряды окон здания института темнели внушительно и строго, и Одинцов, скользнув по ним взглядом, еле приметно перевел дух.
«Вот перед тобой истина, — опять прозвучал в нем внутренний трезвый голос. — Просто приближается срок, последняя черта, и твое тайное смятение всего лишь приготовление к последнему шагу, — вот откуда возмущение и протест, желание что-то последнее найти и открыть…»
Старинное здание по-прежнему не отпускало — в одно мгновение его сердца коснулись слабость и трепет живого существа перед вечностью; перед ним возвышалось старое, с лепными фронтонами и карнизами здание, с необычайной толщины массивными стенами, с лабиринтом сухих и прохладных подземных хранилищ, с тупиками и закоулками, годами, возможно, десятилетиями не слышавшими человеческого голоса — сюда не заглядывали даже самые ревностные служители архива, — именно в таких местах всегда присутствовало, таилось и развивалось нечто особое, нечто свое от собранных здесь неисчислимых и бесстрастных свидетельств прошлого, от тесного соседства самых различных эпох, цепенящих мозг и душу даже при беглом знакомстве со злодействами и примерами божественных озарений человеческого гения, бескорыстного подвига, никогда не отмывающейся грязью доноса и наивным лепетом, отчаянием, оправданиями…
Читать дальше