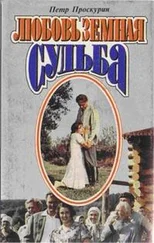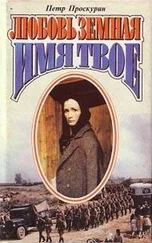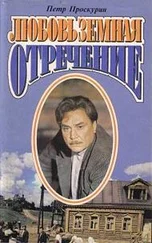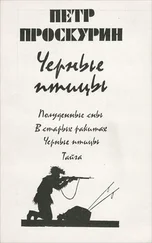— Почему ты не женишься, Жора? — спросила Зоя Анатольевна мягко, продолжая расчищать завалы, теперь на стульях. — Ты совсем одичал, разве так можно?
— А ты почему не вышла замуж? — нахмурился Вязелев.
— Прости, я не хотела сделать тебе больно, — сказала Зоя Анатольевна. — Ну, вот, стол и стулья мы отвоевали. Садись. Я сейчас вспоминаю, что ты и раньше варил чудесный кофе. И со мной тебе нечего равняться, я — женщина, у меня оставался маленький сын — ух, какая это большая разница, Жора! А тебе и сейчас нужно к кому-нибудь прислониться, милый мой, сколько в Москве одиноких душ! Ладно, не хмурься…
— Иногда иначе и нельзя, только по-бабьи, — сказал Вязелев, по-прежнему занятый какой-то своей мыслью, но оба чувствовали, что молчание одного не мешает другому и можно сколько угодно сидеть вот так, позвякивая ложечкой о стакан, прихлебывать черный, обжигающий кофе и просто отдыхать, забыв обо всем на свете.
— Боюсь, ничего не выйдет, — сказал Вязелев, больше самому себе. — Слишком поздно…
— Что не выйдет?
— Из жизни, говорю, ничего не выйдет…
— Вот ты о чем! А ты меньше задумывайся… Конечно, что теперь, снявши голову, по волосам не плачут. Как быстро все пролетело… Роман десятый заканчивает… Ты хоть иногда видишься с ним, Жора?
— Именно иногда. Совсем редко, — сказал Вязелев, пытаясь нащупать в разговоре связующую мысль. — Хотелось бы видеться чаще, но здесь Вадим непреклонен, я всякий раз и в Ромке чувствую его непреклонность. Он до племянника никого не допускает, словно магнитным полем окружил, — сразу отбрасывает.
От кофе и своих мыслей Зоя Анатольевна ощутила предательскую теплоту. Кожа на ее лице слабо разгорелась. «Ну, и что? — подумала она отрешенно. — Жизнь действительно прошла, и пусть! Никого я не трогаю и никому до меня нет дела, и пусть! И пусть! Умрешь ведь — никто и не вспомнит. И пусть! Я и сама не хочу больше никаких напоминаний о прошлом, о нем, Меньшенине, о своей тайной боли; есть вот вещи, стол, стул, чайник, кофе, этот ушедший в свои мысли, начинающий, видимо, спиваться потихоньку мужчина, когда-то бывший самым близким приятелем ей и ее мужу, Меньшенину… Впрочем, зачем же так, мужчины между собой были связаны прочно, она даже ревновала порой и до сих пор ничего не понимает. А теперь вот все и кончено, и видятся раз в столетье. А выговориться бывает порой так необходимо! Доброго слова услышать не от кого, на работе не разговоришься… Сколько приходится молчать, сын вырос чужим, брату я так простить и не могу, и осудить не могу, нет у меня на то права… Все работой убить хотела… второй институт заочно закончила, английский изучала… Господи, а кому это нужно? Ее английский, ее два института? Хотя бы одной-единственной душе… Разве вот Вязелеву? Хотя и этот тоже молчит, как истукан…»
Покосившись в сторону небритого, неухоженного хозяина, Зоя Анатольевна, смущаясь своих мыслей, тихонько засмеялась.
— Ты на меня обиделся, Георгий? — неожиданно мягко спросила она. — Где ты? Пригласил, а сам исчез… Ау-у! А…
— Зоя, понимаешь… я, конечно, бревно и трус и… странно все это, по-прежнему под башмаком у Алексея, у Меньшенина… Но я все же не могу промолчать, это свыше моих сил, — прервав ее, неуверенно заговорил Вязелев, и нервный тик тронул у него правое веко, — он придавил его указательным пальцем. — Понимаешь, я должен тебе признаться… дело в том…
— Ну, говори же, говори! — потребовала Зоя Анатольевна, начиная чувствовать неизъяснимый страх. — Ну, не тяни! Какой ты, право…
— Дело в том, что сегодня… теперь уже вчера, ко мне приходил Меньшенин, — растерянно сказал Вязелев. — Да, да, да, он, Алешка Меньшенин.
— Вчера? Алексей? Ты хочешь сказать, он жив? — Зоя Анатольевна слепо перебирала по краю стола пальцами, и с каким-то детским удивлением не отрывалась от лица хозяина.
— Очень странный вопрос! Жив, значит, если приходил. Явился за своими бумагами, как будто его были обязаны столько лет ждать! И хранить его драгоценные записи! Других дел у людей, конечно, нет, пришел, как будто вчера расстались, потребовал оставленные у меня свои бумаги передать сыну, то есть Роману… И подчеркнул — немедленно! Слышишь, говорит, немедленно, это душу его спасет… А? Как тебе нравится? — с деланной бодростью поинтересовался Вязелев и передернул плечами. — Нет; ты подумай, за все эти годы ни строчки, ни весточки, и на тебе — он душу свою ими спасет! Чем? Старыми бумагами? Нужны они ему, Роману, как летошний снег… Явился!
Читать дальше