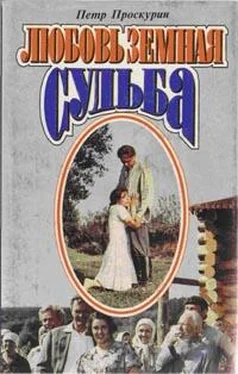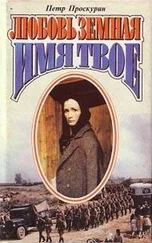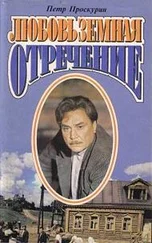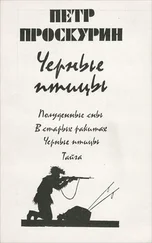Дед Макар, бесстрашно семеня через всю хату, приблизился к нему, взял толкач, и Поливанов непонимающе уставился сверху вниз в сухое лицо старика, словно впервые увидел его.
— Ты, Акимка, не того! — строго сказал дед Макар. — Не сигай козлом. А ну, пусти, нехристь, — дернул он толкач к себе, и Поливанов неожиданно легко выпустил из рук свое увесистое оружие; дед Макар пошел и поставил толкач назад в ступу; Поливанов медленно повернулся, увидел в дверях Маню, вернее, он различил в первый момент белое пятно ее лица с неподвижными глазами и, чувствуя начало самого неприятного и тяжелого, решил немедля притушить готовый вспыхнуть взрыв, повернулся к Лукерье:
— Чего взъерошилась, ворона? Век прожила, а все у тебя бьется да валится. Подбирай свои черепки, давай вечерять, ночь на дворе!
— Господи, да я что ж, — изумленно охнула Лукерья, бросаясь наводить порядок в избе. — Садись, батюшко, счас, счас, — говорила она, подбирая тряпкой воду с пола. — С кем не бывает, грохнулось и рассыпалось... руки уж не держут, заморилась на работе... новую купим в городе, эта давно течь начала... Все недосуг, сказать хотела...
Медленно, не обращая внимания на мать, Маня прошла мимо отца и деда Макара; Кирьян, сжимаясь под ее взглядом, словно становился меньше и, когда Маня оказалась у самого стола, рядом с ним, с трудом удержал себя на месте, и в его глазах зажглась ответная ненависть.
— Выбрали, значит, свой час, братики, — сказала Маня, трудно и медленно шевеля губами. — За что ж вы его, душегубцы, он же вам теперь по крови родня...
Не выдержав ее тихой, бесконечной всплывшей боли, Кирьян вскочил на ноги и, подавшись вперед, почти застонал от застарелой, густой, как деготь, злобы.
— Молчать бы тебе, срам свой от людей подальше хоронить, а ты как божья матерь выставилась! Глядите! Вон какая у Поливановых! Не отстанет твой кобелина, до конца забьем, вот те крест свят! — Кирьян неумело обмахнул широкую, мослатую грудь крестом, пытаясь в то же время подчинить себе, соответственно моменту, передергивающееся лицо.
— Что ж он тебе, Кирьян, в горле поперек стал? — спросила Маня, из последних сил сдерживая ворочавшуюся, разрывающую ее изнутри беду; она еще помнила, что где-то здесь рядом мог быть Илюша, мог слышать и видеть все происходящее, но тупая, темная злоба, вставшая перед нею в лице брата, вскоре стерла и эту последнюю грань.
— Забьешь, Кирька? А помнишь, как ты меня спьяну на пасху лапал, еле отбилась? Может, ты за это забьешь, Кирька? Али в шутку было? Погляди матери с отцом в глаза, а на меня нечего белки пучить! — почти кричала она вздрагивающим от избытка стремительной силы голосом, — Знай, антихрист косоротый, — она увидела, как брат побелел от детского прозвища «антихрист косоротый», и мстительная радость захлестнула ее, — тут и моему родству с тобой да с Митреем конец. Сама на плаху пойду и вам головы порублю. Я вам говорила: не троньте меня с Захаром! Давно подбирались! Дождались разбойного часа, прозвонил! А какой ты мне брат? Какой? — бросала она Кирьяну наболевшие давно и теперь словно сами собой рождавшиеся слова. — Не брат ты мне, раз судьбу мою до конца изувечить решил. Так вот знай, плетью обуха не перешибешь, а судьбу руками не разведешь! Ладно, Кирьян! Ты на кровь пошел, и я ни на что не погляжу! — Маня стремительно отступила от онемевшего Кирьяна, легко поклонилась ему в пояс и бросилась к дверям; здесь ее, растопырившись и расставив руки, с решительным и грозным лицом встретила Лукерья.
— Пусти, маменька! — прошипела Маня, намереваясь хоть силой прорваться в дверь.
Лукерья стояла не шевелясь, охваченная тем редким приступом гнева, когда и сам глава семьи смирялся и благоразумно отходил от нее. Но именно в этот момент со стороны было особенно ясно видно, насколько схожи мать с дочерью, схожи той, обычно неприметной, силой характера; Лукерья стояла медведицей у потревоженного гнезда, заслонив собой двери; она не знала, что будет дальше делать, но чувство беды, грозившей в один момент разметать и уничтожить ее привычный и налаженный мир, привело ее в редкостное состояние решимости: она была готова хотя бы и своим телом загасить вспыхнувший пожар.
— Куда это ты сбираешься, доченька, стерва бусурманская? — спросила она у тяжело дышавшей Мани, протягивая к ней руки и этим неловким жестом как бы приглашая к примирению; Маня не приняла ни ее рук, ни голоса.
— В город! В милицию! — кричала она. — Я вас на весь свет ославлю, а этих бандюг, — она метнулась лицом на Кирьяна, — за решетку. Нету такого закону — человека убивать по злобе! Пусть власть разберется! Пусти меня, старая, ты свое отлюбила, мне поперек дороги не становись!
Читать дальше