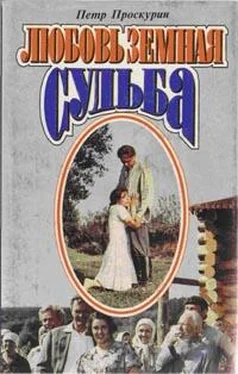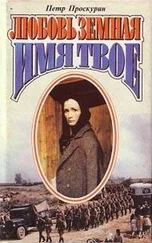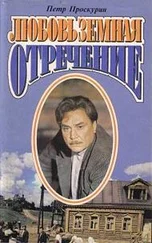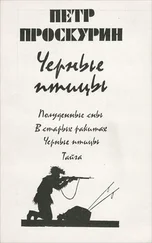— Ну, а теперь я отвернусь, а ты спрашивай, кому, — сказал Егор и, зажмурившись, сидя, крутанулся назад.
Николай, часто и беспомощно моргая от прежних своих нехороших мыслей о брате, положил руку рядом с порцией мяса.
— Кому? — спросил он хрипло, уже не в силах владеть собой.
— Тебе, — весело отозвался Егор, и они тотчас стали есть, Николай, жадно пережевывая вместе с мясом и кости, а Егор с некоторой осторожностью, словно вначале пробуя и оценивая, вкусна ли получилась стряпня.
— Соль, соль забыл, — напомнил он Николаю, — гляди, он дичины без соли может живот схватить. По крупинке в рот бросай, ох, скусно, черт дери!
Николай не ответил, да и не мог ответить, но когда от утки ничего не осталось, чувство голода лишь усилилось; Николай поднял с земли чисто обглоданную косточку и стал ее сосать.
— Дураки мы с тобой, — огорчился Егор, — надо было котелок захватить. Эх, я, остолоп! Утку бы сварили, взвар бы мясной... Ладно, пошли, хоть с берега попьем.
Братья спустились к воде и напились, и оба скоро почувствовали, как начинают слипаться глаза, сытная, непривычная пища их совершенно обессилила, и они еще долго сидели у затухающего костра, огрузневшие, молчаливые, скованные теплой дремотой.
За постоянной немеренной крестьянской работой с зари до зари, в заботе о куске хлеба для ребят Ефросинья не замечала, как летит время; Егор с Николаем росли на свободе, как растет дикое дерево. Бабка Авдотья тоже мало что могла дать внукам в это трудное время бесхлебья, хотя ее хлопотливая забота и ворчливая старушечья любовь к ним были великим, неоценимым благом; для бабки Авдотьи ее внуки были лучше всех на свете, и она никогда не задумывалась, почему это так; просто так должно было быть по порядку жизни, и так оно для нее и было. И утки, удачливо добытые братьями на Слепненских озерах, лишь явились подтверждением того, что ее внуки самые ловкие и удачливые из всех ей известных кругом детей (правда, она тайно никому не показывая, испытывала большую симпатию и к поливановскому Илюше, но в этом опять-таки говорил голос крови).
Уже вечером, после возвращения братьев с охоты, совершенно ослабевшая от недоедания бабка Авдотья, охая и ахая, ощипала слабыми пальцами уток, бережно подбирая перо и пух в корзину и поминутно поднимая иссохшую руку для креста.
«Господи, святая матерь, заступница ты наша! Возрадуемся на щедрость и благодать твою! — неслышно бормотала бабка Авдотья про себя. — Теперь проживем... И травка разная пошла, крапивка, щавелек... Проживем. Слава тебе!»
Тут же распределив и слегка присолив мясо, бабка Авдотья сварила на мясном взваре борщ из той же крапивы, щавеля, для вкусу, не поскупившись, положила в него две картошины, и, впервые не дожидаясь, пока поедят ребята и Ефросинья, налила себе в продолговатую крышку от немецкого котелка и, опять помолившись, похлебала мясного взвару, жмурясь от забытого удовольствия, по прежнему с благодарностью к богу за таких добычливых, домовитых внуков. Половинку утицы она завернула в какой-то помятый лист бумаги и украдкой от внуков и невестки отнесла Лукерье Поливановой, сказала ей подкормить Илюшку, и, довольная собой, внуками и жизнью, впервые за много дней легла спать успокоенная и твердо убежденная, что в жизни непременно наступит поворот от бед и напастей, и это предчувствие хорошего не покидало ее и во сне. Она и во сне молилась за щедрость жизни, но открыла глаза где-то ближе к восходу от неясной боли; бабка Авдотья ойкнула и, окончательно проснувшись и нащупав ногами опорки, заторопилась из землянки. Она решила, что живот у нее разладился от мясной тяжелой похлебки, и утром никому ничего не сказала, она не привыкла обращать внимания на подобные мелочи; на другой день она мимоходом обронила Ефросинье, что у нее с животом худо, но тут же добавила, что это, видать, от утиного мяса на нее такое действие, к завтрему, гляди, и пройдет. Но ни завтра, ни через два дня это не прошло, и бабка Авдотья слегла по-настоящему; она послала Егора на луг надергать прошлогодних сухих головок конского щавеля, сказала Ефросинье густо натомить их и стала пить этот темный горький отвар три раза в день, но болезнь не затухала. Бабка Авдотья уже не могла сама выбираться из землянки, и Ефросинья для нужды подавала ей большое старое ведро; вдруг в какой-то час и Ефросинья и бабка Авдотья поняли, что это не болезнь, а конец, и Ефросинья побежала к родственникам, к председателю Кулику, вернувшемуся месяц тому назад из партизан откуда-то из Белоруссии с обмороженными ногами и сменившему Свиридова. Нужно было показать больную доктору, а доктора можно было найти лишь в Зежске.
Читать дальше