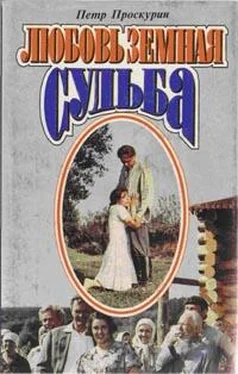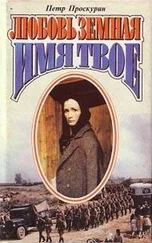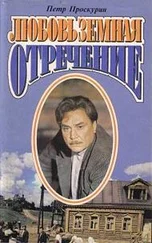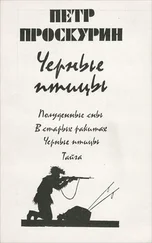Нищенка пошла дальше, и ей казалось, что идти теперь легче и живот не так тянет книзу, и она больше не думала, что заблудилась и жилья может и не быть еще двадцать верст; что-то переменилось в мире, и он показался ей иным, ближе и понятней; она словно вечно вот так шла по жгучей земле в покойном и теплом сне; она поймала себя на том, что засыпает на ходу, идет и засыпает, и пробормотала что-то неразборчивое, лишь бы услышать свой голос; час прошел или больше после журавлей, она не знала; в ноздри ей ударил запах прелого навоза и мокрого дыма, и, словно ожидая именно этой минуты, боль полоснула по низу живота и кинула ее на дорогу, она глухо завыла, прикусила губу, поползла, с трудом переставляя трясущиеся руки, и платок сбился ей на глаза; каким-то бессознательным чутьем она угадывала дорогу, и под ее руками зашелестело наконец сухое сено; она стала выдергивать его из слежавшегося стожка, корчась от муки, от боли. По телу волной разливался жар. Не дай бог, собаки учуют, подумала она неясно, или хозяин услышит, и, чтобы не кричать, ткнулась лицом в пахучее сено, забирая его оскаленным ртом, и задавила крик, какая-то сила тотчас перебросила ее на спину, и тело ее словно разделилось, и сразу наступило облегчение. Она почувствовала в ногах горячее и живое движение, стала непослушными руками натаскивать на себя сено; больше она уже не могла и стала засыпать, хотя все время знала, что спать нельзя и надо что-то делать; несколько раз опять подымалась боль, и то, что было в ногах у нее, двигалось и принималось пищать; изловчившись, она освободила из под ног тяжелый и беспокойный комок и, сделав все, что могла, что подсказывал ей инстинкт и разум, как бы почувствовала на это короткое время прилив сил и, развернув рваную, намокшую свитку, расстегнув кофту, приложила его к набухшей груди, чтобы хоть немного согреть; она прижала это к себе, к своему теплу, и оно затихло, и ее сразу отпустили и боль и страх; она лишь чувствовала усилившуюся слабость, перед глазами стоял туман; остатки сил уходили от нее, и она подумала, что это ей уже снится, и с благодарностью к теплому сену, к журавлям, к тому огромному богу, что услышал ее и послал ей живой крик и сухое тепло, она шевельнула высохшими губами и с трудом выпростала из расшитого ворота рубахи закаменевшую, тяжелую грудь, постаралась дать сосок ему, но это было уже не осознанное желание, а инстинкт, — она затихла, уходя от всего, и ее набухшую, болезненную грудь теперь грело оно. И это, уже чужое, но все-таки свое тепло еще продолжало некоторое время держать ее, но даже и это ощущение слабело больше и больше, и, когда под утро хозяин избы, молодой, высокий мужик, вышел надергать корове и овцам сена и наткнулся на нее, она уже ничего не чувствовала, и лишь сладко пахло холодной кровью. Почти полузадушенного младенца мужского пола не сразу смогли вызволить из ее задубевших рук и вместе с ней внесли в избу, а когда положили на лавку и отвели с ее лица густые ссохшиеся волосы, увидели белое лицо в застывшей, успокоенной красоте; она глядела, как живая, и от чадившей керосиновой лампы в мертвых глазах у нее дрожали тени, и жена хозяина Ефросинья, державшая у груди голозадого сосунка, ахнула и попятилась; а Захар, ее муж, растерянно почесал волосатую грудь, озадаченно выдохнул: «Ну, не было мороки», — и всей натруженной ладонью от лба к губам провел по твердому лицу мертвой, закрывая ей глаза.
По-прежнему шел дождь, и рассвет был гнилой и тяжелый; покойницу похоронили к вечеру; шестеро мужиков вырыли могилу на самом краю погоста, опустили неструганый гроб в успевшую набежать мутную глинистую воду, торопливо завалили в шесть лопат яму и, злые, недовольные лишней, неизвестно откуда подвернувшейся работой, сложив лопаты на телегу, уехали погреться самогоном; Захар Дерюгин, один из них, пытался закурить, но газета расползалась под мокрыми пальцами. В предвкушении самогона и горячей еды мужики перед самым селом повеселели и, уже сидя в просторной теплой избе за столом, стали обсуждать происшествие и гадать, что за человека к ним занесло, и Захар, принимая стакан из рук хозяина, Акима Поливанова, мужика в хорошем достатке, покосился в сторону крутогрудой хозяйской дочки, выставившейся в дверях горницы, затем отвел глаза на стакан; у самых краев дрожала огнисто-синеватая чертова влага.
— Приспело вам зря гадать, — сказал Поливанов хмуро. — С хохлатчины никак баба забрела. У них в этом году неразбериха какая-то, мор, слышно. Хлеб, какой был, государству пошел, вот они и бредут во все стороны. — Захар опять покосился в сторону девки, еще больше изогнувшейся прелестной частью под его взглядом, недовольно нахмурился, чувствуя в теле тягостную дурноту. Поливанов, ничего не упускавший, добавил чуть торопливей: — Ну, так что, подняли, мужики, давай за упокой, какой-никакой, а человек, дите принесла. Пусть лежит, земля, она одна, что у них, что у нас, — расейская, советская.
Читать дальше