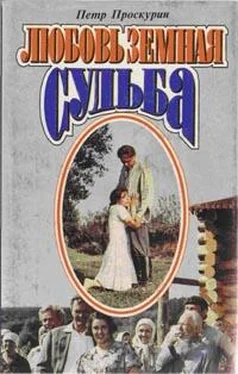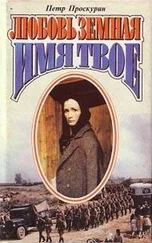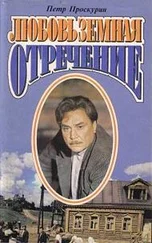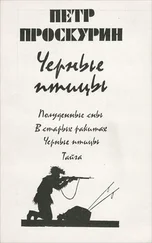Дек Макар устал от долгого разговора, замолчал, Юрка Левша подал ему полстакана водки и моченое яблоко закусить.
— Повезло же человеку! — в который уже раз удивился Юрка Левша. — Ну, давай, дед, говори дале, дале как?
— Погодь, — осадил его дед Макар. — День потом прошел, а нам в амбаре постелили, к двери стражника велел барин приставить. Я уж не знаю, как этот день и прошел. Мать ревет, а отец у меня смешливый, веселый, самому-то ему в ту пору лет за тридцать и было. Молодой. Улучил момент и говорит, ты, мол, Макар, коли сам не справишься, меня покличь, вдвоем в самый раз осилим.
Грохот, рванувший в избе, заставил забиться пламя в лампах, хохотали дружно и смачно, а дед Макар сидел иждал.
— Ладно, говорю, позову, батя, как что. А он мне опять на ухо, чтобы я не пужался, а сразу изловчился бы в самую точку, а где там не испужаться? Как легли-то в постелю, я к ней коснуться боюсь, на ней одна рубашка кисейная, и вся она огнем горит. Я молчу, и она молчит, а потом как пустит слезу! Тут я рукой по голове ее и погладил, ладно, мол, говорю, чего уж ты. У нас семья добрая, веселая, будем жить как-нибудь, Стеша. Вот тут она и придвинулась ко мне, всего меня слезами измочила, плачет да целуется, губы вострые, в самую середку прошибают, аж тошно мне стало, во, думаю, ведьма! Уговариваю ее, а она и того пуще, а под конец и меня спалила, весь дрожмя дрожу, а что дальше делать, не знаю.
Юрка Левша от искреннего горячего волнения вскочил, хотел что-то сказать, опять сел и тотчас замолк; дед Макар строго на него поглядел.
— Уж как-то само собой у нас и получилось, только слышу, стон она закусила, а затем и сам в беспамятство рухнул. Ведь вот жизнь потом прожил, а такой сладости более и не привелось узнать...
— Так это потому, дед, что в первый раз! — опять не выдержал Юрка Левша.
— Помолчал бы ты, Юрка...
— Ладно, ладно, дед Макар, а что ж потом?
— А ничего. Всю ночь у нас то же самое и было, уж так меня захватило. А под утро уговорила она меня доставить ее в город тайком, на станцию, ох, братцы, и жалко было мне это делать, да не смог-то я противиться ей, дурак еще был. Правда, еще ночь одну были мы вместе, пока барин караула не снял, и будто показалось мне, что она и полюбила меня, а там отвез я ее на железку тайком ото всех. Вот там-то, как она садилась в этот вагон, словно в груди ножом-то у меня и ковырнуло; уж понимать-то я стал, какую красоту от себя отпускаю. Да и то, разве удержишь, коли она сама не хочет, тоскует? Махает она рукой, и глаза-то, глаза... Года два я потом сох, пока батя уж сам насильно не оженил меня, да уж так не то... не то...
— Размазня ты, дед! — в сердцах сказал Юрка Левша, встопорщившись. — Баба, она такая штучка, она бы ко всему обвыклась.
— Может, и размазня, — согласился дед Макар, окончательно устав и насупившись. — А ты мне разъяснишь, что она такое за штука, жизня наша? То-то же, никто не знает. Не наш она человек была, сохла бы, да и все, девка эта. Ничего она работать не умела, ложку держит как-то чудно, рука как есть у ребенка малого, чистая, хилая. А коровы-то шведские на другой год отбились от стада, волки их под Слепней задрали, вот тут тебе и резон.
Новая изба Захара Дерюгина поднялась крышей выше всех на селе, стояла ровно и уверенно, а когда под утро показался месяц, забелела новыми рамами. Долго в эту ночь не могли успокоиться Густищи, почти до рассвета пиликала гармонь и парни ходили по селу и горланили песни, слышались приглушенные взвизги девок, и похрустывал, проваливаясь, свежий ледок под каблуками. И далеко во все стороны тянулись залитые мутным сиянием просторные поля, опустевшие к долгой зиме, и только перед самым рассветом у леса на овсяное незапаханное жнивье просыпалась большая, почему-то запоздавшая стая диких гусей, сторожкие птицы шелестели носами в жнивье; скоро их спугнула вышедшая из кустов огнено-рыжая лиса, и они, снявшись с поля, с долгим тревожным гоготом исчезали в небе, а лиса долго ходила по полю, принюхиваясь к волнующим, уже остывавшим запахам.
Высокое, почти безоблачное летнее небо, наполненное солнечным блеском, сквозило голубизной, с лугов наносило густые запахи перестоявших трав. В этот жаркий июльский день тысяча девятьсот сорок первого года, всего через неделю после того, как Захара Дерюгина призвали в армию, в смятенном мире произошло неисчислимое множество событий, были сожжены и уничтожены десятки сел и городов, убиты, расстреляны, замучены десятки тысяч людей; в этот день завязывались сложнейшие узлы дипломатических, политических, военных противоборствий и движений, которые потом должны были переплетаться и действовать в течение длительного времени. И одним из многих событий этого дня явился короткий, по-военному четкий, но с явным оттенком дружеской фамильярности разговор между командующим 2-й танковой группой немецких войск группы «Центр» генералом Гудерианом и командиром 29-й механизированной дивизии генералом Фромераем.
Читать дальше