И пастор решительно закивал, и понял. И они провели этот утренний час в тишине и покое.
Затем — отъезд.
Мюнтер не поехал вместе со Струэнсе в карете, а вошел в нее только возле эшафота; карета остановилась совсем рядом с эшафотом, и им было видно, как поднимается по лестнице Бранд, и через открытые окна были слышны слова Хи и палача и затем крик Бранда, когда ему неожиданно отрубили руку, а потом тяжелые глухие удары, когда происходило расчленение, и части тела сбрасывали в телегу у подножия эшафота.
От Мюнтера было не особенно много помощи. Он начал было читать из Библии, но стал совершенно бесконтрольно дрожать и всхлипывать, Струэнсе принялся его успокаивать, но ничего не помогало. Пастор сотрясался всем телом и всхлипывал, пытаясь сквозь слезы бормотать слова утешения из Библии, и Струэнсе помогал ему своим носовым платком, а уже через полчаса расчленение Бранда закончилось, звуки падения разрубленного тела прекратились, и настал час Струэнсе.
Он стоял наверху и смотрел на людское море. Как много пришло народу! Людское море было бесконечным: к этим-то людям он и прибыл с визитом, им-то и должен был помочь. Почему же они не благодарили его? но это был первый раз, когда он их видел.
Теперь он их видел, если я видел, о Боже, который, быть может и существует, щель, протиснуться в которую было моим призванием, и если это было ради них, и раз все это оказалось напрасным, не следовало ли мне спрашивать их, о Боже, я вижу их, и они видят меня, но это слишком поздно, и мне, быть может, следовало говорить с ними, а не замыкаться, и им, быть может, следовало говорить со мной, но я же сидел у себя в комнате, и почему мы впервые встречаемся вот таким образом, когда уже слишком поздно, и тут сломали его гербовый щит, и произнесли слова. Его раздели. Колоды были сильно испачканы Брандом, и он подумал: это Бранд, эти куски мяса, эта кровь и эта слизь, что же тогда такое человек, когда святое исчезает, если лишь эти лохмотья мяса и кровь и есть Бранд, что же тогда такое человек, его схватили за руки, и он, покорно, как жертвенная овца, поместил свою шею на одну колоду, а руку — на другую, неотрывно глядя прямо перед собой, на бесконечное множество бледных и серых лиц, которые с открытыми ртами смотрели прямо на него, и тут палач отрубил ему своей секирой правую руку.
Его тело при этом так сильно задергалось, что палач, намереваясь отрубить ему голову, промахнулся; Струэнсе встал на колени и открыл рот, словно желая заговорить с этими тысячами, которые он теперь впервые увидел, предо мной один лишь образ, Господи Боже, и это образ моей малышки, но если бы я мог еще и говорить со всеми теми, кто не понял, и перед кем я согрешил тем, что не и тут его опять прижали к колоде, и когда палач во второй раз занес над ним свою секиру, лишь взметнулись сказанные им ей последние слова во веки веков, и секира наконец попала в цель и отрубила голову немецкого лейб-медика; и его датский визит завершился.
С востока накатила дождевая туча, и, когда началось расчленение тела Струэнсе, пошел дождь; но уйти отсюда массу заставило не это.
Они покидали место этого действа, словно бы им было уже достаточно, словно бы они хотели сказать: нет, мы не хотим этого видеть, здесь что-то не так, не так, как нам бы хотелось.
Неужели нас ввели в заблуждение?
Нет, они не убегали, они просто стали уходить, сперва несколько сотен, потом несколько тысяч, потом ушли все. Как будто бы с них уже хватило, в увиденном не было ни радости, ни злорадства, ни мести, все было просто невыносимым. Поначалу они были бесконечной массой, которая молча смотрела на происходящее наверху, почему же в таком молчании? а потом они начали уходить, сперва медленно, потом все более поспешно, будто скорбя. Они шли и бежали в сторону города, дождь шел все сильнее, но к дождю-то они привыкли; казалось, что до них, в конце концов, дошло, что означало это зрелище, и они не хотели продолжения.
Может быть, они не выдержали жестокости? Или почувствовали себя обманутыми?
Гульберг велел остановить свою карету в ста локтях от эшафота, и из кареты не вышел, но приказал, чтобы около нее, в качестве охраны, осталось двадцать солдат. От чего они должны были его охранять? Все шло по плану. Но внезапно что-то стало казаться угрожающим и вышедшим из-под контроля, что это с народом, почему они покидают место действа, что же такое в их усталых, печальных и изнуренных лицах внушало ему чувство беспокойства; они двигались мимо него, словно некая серая, ожесточенная масса, некая река, какая-то молчаливая траурная процессия, лишенная слов и чувств, но выражавшая, казалось, лишь — да, скорбь. Это была скорбь, абсолютно безмолвная и никак не контролируемая. Они засвидетельствовали безоговорочный конец времени Струэнсе, и однако же, у Гульберга возникло чувство, что опасность не миновала. Что греховная зараза распространилась и на них. Что черный свет факела Просвещения не был погашен. Что эти мысли каким-то странным образом заразили их, хотя они едва ли умеют читать и уж, во всяком случае, не понимают и никогда не смогут понять, и что поэтому их необходимо держать под контролем и направлять; но эта зараза там, быть может, все-таки существует. Возможно, время Струэнсе не кончилось; и он знал, что теперь надо проявлять предельную бдительность.
Читать дальше
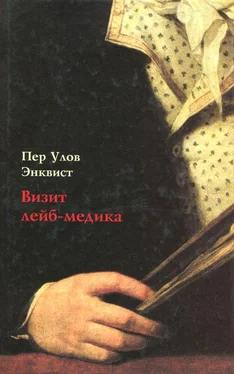






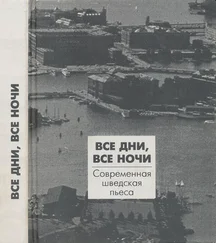
![Пер Энквист - Библиотека капитана Немо [Роман]](/books/396658/per-enkvist-biblioteka-kapitana-nemo-roman-thumb.webp)



