Только Синьора способна была со спокойным сердцем интересоваться роковыми событиями. Она приказала Джезуине занять ночью свой наблюдательный пункт у окна за занавесками. Лилиана тревожно металась в постели, и Синьора нежила ее, согревала, закрывая одеялом до самого горла, переплетая ее ноги со своими, окутанными фланелью.
Мяукали беззаботные коты; журчала вода в писсуаре, стекая по фаянсу. Торжественно прокукарекал петух. На башне Палаццо Веккьо раздавался бой часов, с каждым ударом усиливая напряженность ожидания. Но вот в октябрьском тумане забрезжила заря, и, наконец, первые лучи солнца осветили крыши. Тогда и Лилиану сморил сон, а Джезуина совсем окоченела, и у нее от холода не попадал зуб на зуб.
— Иди отдохни, плутовка, — сказала ей Синьора. — Я постучу в стену, когда будут новости.
Девушка пошла в свою комнату и легла. Как она замерзла, проведя всю ночь у окошка! Тщетно пыталась она согреться в постели, закрылась одеялом с головой, вся скорчилась, зажала руки меж колен. Тепло не приходило. Джезуине казалось, что у нее даже сердце дрожит от холода, в голове вместо мозга кусок льда, и каменный обруч сжимает виски. Подобное ощущение она иногда испытывала летом, сделав слишком большой глоток какого-нибудь ледяного напитка. Но в таких случаях оцепенение проходит в одну секунду, и сразу всем телом радостно ощущаешь, как кровь снова бежит по жилам. А сейчас это чувство все не проходило, каменный обруч по-прежнему сжимал ей виски, и она дрожала всем телом.
«Вот как продрогла, до самого нутра!» — думала Джезуина. Глупо она сделала, что не достала из шкафа шерстяной халат и не закутала горло платком, как зимой, когда приходилось долгие ночи быть на ногах, ухаживая за Синьорой, если у той был приступ удушья.
Холод и сырость осенней ночи пронизывали девушку до костей. В этом болезненном состоянии она чувствовала себя жалкой и несчастной. А голова была такая тяжелая. Неотвязные мысли, владевшие Джезуиной в последние месяцы, как будто сплелись внезапно в комок, бились в унисон с ее сердцем, повторяя: «Нет, нет и нет для тебя исхода. Бунт, который ты замышляешь, напрасен и нелеп. Была и будет Джезуина рабыней Синьоры».
Лилиана вытеснила ее из сердца Синьоры, и теперь она, Джезуина, вновь стала тем, чем была в самом начале, когда Синьора взяла ее из приюта: сиротой, которую Синьора наняла себе в услужение «за обычное жалованье». Двенадцать лет протекли бесплодно, бесполезно! Синьора воспользовалась ею, всячески ее эксплуатировала, принудила думать по-своему, а потом отшвырнула ее и теперь уверена, что держит в своем доме покорного сообщника, который не посмеет предать.
Прошло несколько месяцев, привязанность Синьоры к Лилиане оказалась прочной, и Джезуина, освободившись от смятения ревнивой зависти, начала думать самостоятельно, постепенно выходя из-под духовного подчинения Синьоре. И тогда она, как двенадцать лет назад, в приюте, оказалась одна — не с кем было поделиться мыслями, некому излить свое сердце; будущее было закрыто перед ней, мир неведом, нет друга, к которому можно постучаться в дверь, не на кого опереться. И вот, наконец, ей на ум пришло слово «угнетенная». Эта кощунственная мысль оказалась толчком; впервые Джезуина усомнилась в справедливости господа бога. Впервые она подумала, что Синьора «причинила ей зло».
Видя, что Синьора оказывает Лилиане те же знаки внимания, дарит ей те же нежности, которые раньше расточала ей, Джезуине, с тех пор как она стала взрослой, быть может, повторяет те же интимные слова и, конечно, осыпает теми же ласками, Джезуина сначала испытала острую ревность. Но постепенно, по мере того как нарастало ощущение утраченного счастья, сдержанного гнева и разочарования, у нее появилось и другое чувство: словно мало-помалу туман рассеивался перед ее глазами. Синьора утратила свой ореол почтенности и стала для Джезуины обыкновенной старухой, больной и капризной старухой, каких много на свете. Глаза Синьоры больше не возбуждали в Джезуине смешанного чувства страха и влечения, как это было раньше. Интимная близость с ней казалась теперь девушке не только страшной, но и противной, отталкивающей, мерзкой. Теперь Джезуина видела Синьору такой, какой та была в действительности, испытывала к ней чувство гадливости и судила ее.
Перед служанкой словно распахнулись двери тюрьмы, где она провела свое отрочество, где ее цветущая юность была прикована к постели больной или к окошку, — ведь весь ее кругозор ограничивался узкой улицей виа дель Корно. Вновь пробудились ее естественные инстинкты, хотя она и не отдавала себе в этом отчета; и то «воспитание», какое дала ей Синьора, та кладбищенская стена, за которую она запрятала девушку, внушая ей враждебность к миру живых людей, постепенно рушилась. Джезуина становилась хозяйкой своей судьбы. Но она никак не решалась переступить порог темницы и вырваться на свободу. Оглядываясь назад, девушка снова испытывала тот же страх, что и в тринадцать лет, и все еще не в силах была постоять за себя. Она видела, как Лилиана, женщина с жизненным опытом, жена и мать, тонула в том же болоте внушений и уговоров, из которых она сама едва выбралась. Джезуина жалела Лилиану, но в то же время испытывала чувство злорадства и отнюдь не собиралась протянуть Лилиане руку помощи, чтобы спасти ее и «открыть ей глаза». В душе Джезуины еще оставалась мстительность, которую ей привила Синьора: это был последний кусок стены, который все не поддавался. Джезуина еще не освободилась окончательно.
Читать дальше
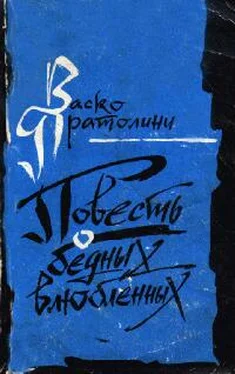



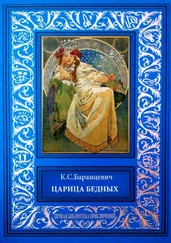



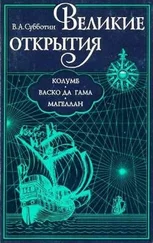

![Роберт Кийосаки - Фейк [Как ложь делает бедных и средний класс еще беднее]](/books/397655/robert-kijosaki-fejk-kak-lozh-delaet-bednyh-i-sre-thumb.webp)

