На следующий день Оресте не преминул во всех подробностях рассказать сапожнику Стадерини о вечеринке. Нанни дополнил картину со слов Элизы. Так стало известно, что Розетта «изображала» из себя новорожденную, а Киккона взяла ее на колени, чтобы покормить грудью, Ада, возбужденная вином, стала кусать и целовать Уго, а когда он оттолкнул ее, забилась в судорогах. Тогда Оресте «из сострадания» принес себя ей в жертву. Даже Ристори, обычно державшийся подальше от своих жиличек, уединился с Кикконой. Розетта осталась одна и, сидя в своей облитой вином маскарадной одежде, размышляла о судьбе стариков, над которыми насмехаются молодые.
Однако до сих пор все это не выходило за рамки веселого кутежа. Сапожник, парикмахер и уголовник Нанни не имели бы достаточного повода для размышлений, если бы в разгар праздника на Освальдо не нашел припадок откровенности. Освальдо не переносил вина, он пьянел второго стакана. И вот он положил Элизе голову на грудь и начал жаловаться на свою печальную судьбу. Он признался честной компании, что невеста ему изменяет. Уго, которому винные пары ударили в голову, предложил устроить в честь рогоносца Освальдо хорошую скампанату. Розетта и Киккона изображали фонари. Освальдо поставили на колени посреди комнаты и, выкрикивая циничные шутки и прибаутки, стали плясать вокруг него трескону. Освальдо мотал головой, как осел, лил слезы и повторял: «Так мне и надо». А потом Киккона помочилась ему на голову. Остальные женщины, окончательно распоясавшись, собрались последовать ее примеру. Но тут вмешался Ристори, да и Уго нашел, что шутка зашла слишком уж далеко. Освальдо катался по полу и ревел: «Так мне и надо», требуя, чтобы его поносили и оскорбляли. Тогда Уго подставил его голову под струю холодной воды из крана, а Оресте принялся растирать его полотенцем. Все стали просить Освальдо считать инцидент исчерпанным, а он повторял как ошалелый: «Вы же это не со зла сделали! Киккона хотела оказать мне любезность! А вот камераты все это со мной из презренья проделали!» Но Ристори, который любил скандалы только за пределами своей гостиницы, отвлек внимание присутствующих, и Освальдо не мог продолжать свои излияния. К тому же он побледнел, как полотно, и весь дрожал от озноба, его уложили в постель, а вся компания отправилась веселиться в свободный номер с зеркалами на потолке. С Освальдо осталась Элиза, как это было между ними договорено.
Но заключительная фраза Освальдо стала известна всем. И после «черной вечеринки» жулик Нанни, парикмахер и сапожник шепотом обменивались своими соображениями:
— Фашисты-то дерутся меж собой!
— Видно, что-то новенькое предвидится!
Но Стадерини, соглашатель в политике, заявил:
— В своем соку варятся!
И мозг и сердце Освальдо пылали, как в огне.
Каждое утро, когда Элиза тихонько выскальзывала из постели, он просыпался, но притворялся спящим. Прищурив глаза, он видел, как Элиза набрасывает на себя платье и, сев на стул, натягивает чулки, потом берет в руки туфли и на цыпочках выходит. Элиза была красива и послушна, ее близость давала Освальдо ощущение уверенности, удовлетворения. В самые волнующие минуты у нее сильно билось сердце, и это очень нравилось Освальдо. Вообще Элиза оказалась весьма привлекательной женщиной, ему хотелось задержать ее, пусть бы выспалась и ушла позже, чем он, хотелось оставить ее в постели и заботливо укрыть одеялом. Освальдо жаждал супружеского мира и покоя. Это стоило бы ему всего на несколько лир дороже. Но именно поэтому он и не задерживал Элизу. Когда опьянение проходило, он хорошо понимал, что каждый жест Элизы — только притворство. Когда Элиза одевалась, не зная, что он следит за ней, на лице у нее была некрасивая гримаса усталости и отвращения. Освальдо становилось жалко ее, и он чувствовал угрызения совести.
Но когда Элиза уходила, он ложился на ту сторону постели, где она обычно спала, вбирал в себя тепло, оставленное ее телом, вдыхал запах ее волос, которым была пропитана подушка. Ему было страшно оставаться наедине со своими мыслями, и в ранний, предрассветный час, пока еще не звонил будильник, Освальдо, ища поддержки и сочувствия, цеплялся за то неуловимое, нематериальное, что оставило недавнее присутствие Элизы. И он шептал о том, что думал, словно Элиза была еще здесь, рядом, и слушала его, роняя «да» и «нет» по своему обыкновению.
Освальдо боялся своих мыслей, потому что боялся людей, о которых думал.
Неделю назад в гостиницу пришла открытка из фашитской организации: Освальдо приглашали явиться туда к половине десятого вечера. Он едва успел помыться, у него не осталось и десяти минут на ужин.
Читать дальше
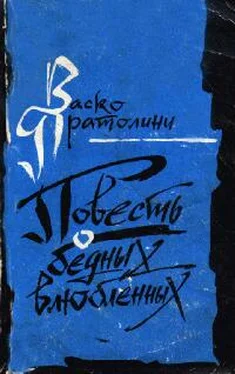



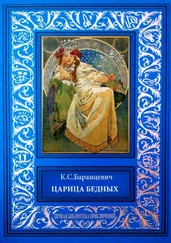



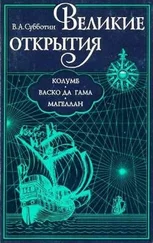

![Роберт Кийосаки - Фейк [Как ложь делает бедных и средний класс еще беднее]](/books/397655/robert-kijosaki-fejk-kak-lozh-delaet-bednyh-i-sre-thumb.webp)

