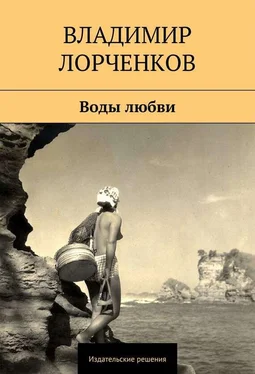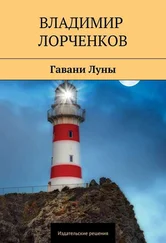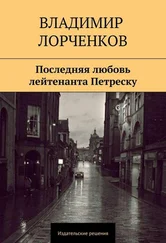Гладил сына по голове. Читал.
– Из леса выходит серенький волчок,
– На стене выводит свастики значок, – читал он.
–… дети безработных, конченных совков
– Сколько рот пехотных, танковых полков… – читал он.
В рассветах и закатах чудились ему всполохи последнего боя, из которого спасся он в Москве, а потом, – чудом, – добирался железной дорогой восемнадцать суток до дома. Туда, где уже и ждать забыли, и где дети поначалу дичились незнакомого мужика с щетиной и руками в шрамах. Лоринков прикрывал разметавшегося во сне сына, поправлял одеяло. Читал ему.
– Твой отец писатель, этот город твой.
– Звон хрустальной ночи, бродит над Москвой, – читал он.
– Кровь на тротуары просится давно
– Ну, где ваши бары? Театры, казино? – читал он.
– Все телегерои, баловни Москвы
– Всех вниз головою в вонючие рвы
– Кто вписался в рынок, кто звезда попсы
– Всех примет суглинок, средней полосы… – читал он.
Подходил к окну, глядел в сереющее перед рассветом небо. Спрашивал:
–… что ж ты, командир? Для кого ты создал
– Свой огромный мир? Грацию оленей,
– Джунгли, полюса, Женские колени,
– Мачты, паруса? Сомкнутые веки,
– Выси, облака, воды, броды, реки,
– Годы и века? – спрашивал он.
– Где он тот, что вроде, умер и воскрес,
– Из леса выходит, или входит в лес? * – читал он.
Оглядывался. Закрывал дверь в детскую, стараясь не шуметь. Одевался, и выходил из дома.
Входил, – словно воскресший, – в лес.
* Лоринков читает сыну стихотворение В. О. Емелина «Колыбельная бедных» и, – видимо, думая о чем-то своем, – произносит слова «писатель» и «театры» вместо авторских «рабочий» и «бары».
– Ванькя, а Ванькя, – крикнула бабка.
– Надысь, Ванькя, скалдобисся, – сказала она.
– Почепись от мурашей якись нахлюст, Ванькя, – сказала бабка.
– Дык от супони да на грозушку, – сказала она.
После этого бабке Акулине, учительнице русского языка на пенсии, надоело разговаривать, как трахнутой поленом об голову идиотке, и она перешла на нормальный русский.
– Внучок, Ванькя, – сказала она.
– Хватит уже сестру двоюродную трахать, – сказала она. – Танькя и так уже третий год в подоле несет.
– Нечего в нее своим хером немытым совать, – сказала она.
– Грех, – сказала она.
Ванькя потупился. Рослый, молодой парень семнадцати лет от роду, он лишь начинал ощущать себя личностью и мужчиной. Утренние поллюции, радостный, свежий секс с запыхавшейся Танькя, что прибегала к нему тайком на сеновал, крепкие, сочные ее уста… Все это было в новинку Ванькя, только открывавшему для себя первую любовь, первую плоть, первые сисечки возлюбленной своей, твердые и большие, словно те ведра, которые Танькя ставила под коровушку Акулинку. Коровушку-то Ванькя тоже смолоду оприходовал, – ну, когда еще не открыл для себя радостной, молодой плоти Танькя, – и приходовал ее все прошлое лето. Свежей травой пахла Акулинькя, косила радостным, чудным, неземным глазом назад, туда, где старался молодой Ванькя, переступала с ноги на ногу, мычала жалобно о чем-то своем, коровьем… Так прошло лето, а потом из соседней деревни пришла Танькя, сестра Ванькя двоюродная. Папка у Танькя был мент на пенсии, он пил много водки и это ему так понравилось, что он купил самогоноваренный аппарат и переехал с ним в деревню. Жену и детишек бросил. Взял с собой одну только Танькя. Он ее трахал, а она его обшивала да кормила, а когда пришел черед папани лечь в землю – Чубайс отключил электричество, и короткое замыкание дернуло тятю прям во время варки самогонки, – Танькя его и схоронила. Погоревала, дала всей деревне, чтоб, как водится, с почестями отпустили, да и пошла в соседнюю деревню, к бабке двоюродной Акулине. Та была баба зажиточная, коровушку имела, и тоже Акулиной звала, чтоб, значит, меньше запоминать надо было. Там-то, у бабки Акулины, Танькя и повстречала Ванькя. Стоял он горделиво, словно столб телеграфный, да перекатывал яйца в кармане штанов рваных, словно суровый мужик – желваки. Танькя, чувствуя, как ноги слабеют, встала у калиточки, зарделась смущенно, вспыхивая изредка особливо ярко, словно алая заря в проводах электропередач затерялась…
– Привет, я Танькя, – сказала Танькя Ванькя.
– А я Ванькя, – сказал Ванькя Танькя.
– Чего делаешь? – сказала Танькя.
– Стою вот, яйца катаю, – сказал Ванькя.
– Давай вместе катать, – сказала Танькя.
Зарделась… С тех пор и повелось. Только бабка Акулина в город, детишков грамоте учить, так Ванькя с Танькя на сеновал. Порицать их было некому, деревня умирала. Из ста домов населены были едва пять, да и то один – мышами да тараканами. Так что Ванькя да Танькя трахались себе на здоровье, ну, или трахалиссся, как говаривала бабка Акулина время от времени. Ох и доставалось им за это! Бывало выйдет Акулина во двор, увидит Ванькя на Танькя да как двинет вилами со всей силы! Так, пришпиленныя, до вечера у забора и висят, пока бабка не пожалеет…
Сам Ванькя был сиротинушка, папка его с мамкой отдали бабке на воспитание, да сами сгинули в водовороте России путинской, не иначе как спились или сзади трахались или повесились. – Нынче в России честному человеку путь один, – читал Ванькя статью из журнала «Огонек», что бабка по старинке выписывала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу