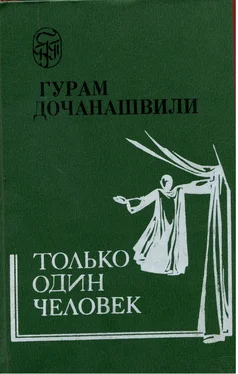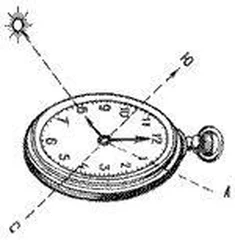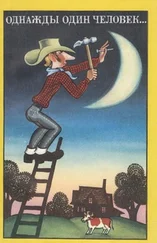— Если вы не обидитесь, батоно Сима, — так начал он, — то я скажу вам правду.
Кто сказал, что нет предчувствия, как так нет, конечно же, есть: я сразу почуял что-то недоброе.
— Какую еще такую правду...
— Какую? А... посмотри мне сначала с мужской прямотой в глаза.
Я присел на берегу ручья и выжидательно на него уставился. Он будто чуть пристыженно покосился в мою сторону, ковырнул пальцем землю и говорит:
— У меня в этой деревне нет никакой тетушки, Герасиме.
Прежде чем я слегка очухался и сумел хоть что-то произнести, по руслу этого малюсенького ручейка успела протечь уйма воды:
— Как так...
— Нет, и все тут, что поделаешь, — и вроде бы уточнил: — Выше своей головы не прыгнешь.
— Но как же это так... ведь тетушка... — От такого потрясающего известия в голове у меня вдруг помутилось, и, потеряв всякий контроль над собой, я сорвался: — Как это так нет! Ты что, шутки шутить собрался?! В чем дело, в конце-то концов! Чего же тогда ты волок меня сюда... Ну я тебе покажу! Где телефон?!
Он добродушно заулыбался:
— Вон там, в роще, на третьем дереве висит, Герасиме.
Я, разумеется, и не шелохнулся.
— А ключ, который ты мне показал, — напомнил я ему. — Нет, нет, конечно же, тетушка у тебя есть, иначе и быть не может, — дрожа с головы до ног, убеждал я самого себя, — да-да, у тебя здесь есть тетушка, эээ... Шалва батоно, есть у тебя здесь тетушка...
— Это, батоно Сима, был ключ от фотоателье моего родного брата Васико. Я там в Тбилиси ночую, бесплатно и хорошо...
— Какой Васико... Что за фотоателье...
— Как, неужто вы не помните, батоно Сима, тост за братьев и сестер?
Ошеломленный до беспамятства, я сидел понуро подле ручейка.
12
Прошло немало времени, прежде чем у меня вырвалось, между прочим, едва слышно:
— Да, но зачем же ты меня сюда привез?
— Вы не обидитесь, если я вам признаюсь?
— Нет.
Он поднялся, сделал несколько шагов взад-вперед и говорит:
— Возможно, ты хороший человек, Герасиме, но я должен тебя еще больше очеловечить.
— О-че-ло-ве-вечить? — запутался я. Что это он говорит?
— Что же во мне такого...
— В твоем поведении, Герасиме, на вокзале, да и вообще тоже проглядывает человек, забывший родину.
— Что забывший?
— Оставь, ты и так все прекрасно понял.
Некоторое время я смотрел на него с ненавистью: если бы я мог, я бы избил его до смерти, но он, собака, был такой жилистый, мускулистый.
— Из чего ты это вывел, интересно...
— А это не скроешь, Герасиме. Стоило только видеть, как высокомерно ты отпустил своего шофера...
— Но это же...
— Да одного того было достаточно, как резко ты вскинул вверх свой чисто выбритый подбородок.
— И ты... теперь... должен меня очече...лове-вечить? — снова запутался я, — фу-уф, ох уж эти мне производные глаголы! Но он понял.
— Да, именно очеловечить.
— Но как?
— А так. Сюда, в Верхнюю Имерети, я ведь заставил тебя подняться, ну, говори!
— Нну, положим.
— Ведь заставил я тебя омыться в воде Грузии?
— Да разве же я и так не пользуюсь все время водой Грузии?
— Где, потерянный...
— Где? Ну, хоть в ванне...
— Тьфу ты... да это же совсем другое дело!
— Почему?
— Долби теперь, почему да отчего. Другое, и все тут, а то начнем с тобой разговоры разговаривать.
Тут какая-то птичка — пфрт! Я встрепенулся:
— Да, но что же ты теперь собираешься со мной делать? — спросил я его подозрительно.
— Я должен заставить тебя провести здесь ночь, здесь, под небом Верхней Имерети, а потом иди, куда хочешь.
— Но зачем это, чего ради?
И он снова повторил мне свое:
— Ради твоего очеловечения, сладкий ты мой. Гляди, гляди, как спускается ночь... Узри это чудо, Герасиме.
Но что за чудо, какое там еще чудо — темнело просто-напросто и ничего больше.
— Живи, здравствуй, Герасиме, но помни одно: хороши — чем плохи? — Лиепая и Карлсруэ, но родину свою надо любить, а чтоб любить, ее надо познать. Ну-ка, глянь вон туда, ты чуешь, какие линии, Герасиме, какая мягкость... Вон туда, на тени посмотри... Где ты увидишь еще такое, кроме как в этой Имерети, в Верхней Имерети...
Какие-такие линии, какая там мягкость... просто вечерело.
А он продолжал:
— А зелень-то, зелень какая необыкновенная...
Но какой же и быть еще траве на лугу, если не зеленой...
Он понизил голос:
— Земля здесь, земля, не тронутая хворью, Герасиме... — А потом и вовсе перешел на шепот, продолжая, все еще в купальных трусах, как говорится, обозревать окрестность.
Я уже не слушал его бесконечных словоизвержений, на меня снова нахлынула ярость:
Читать дальше