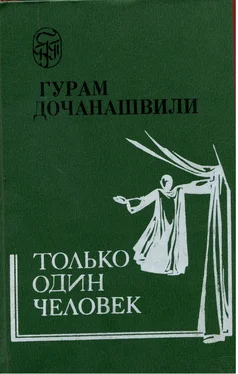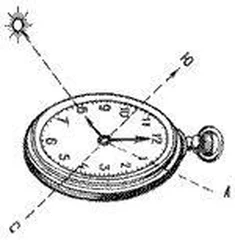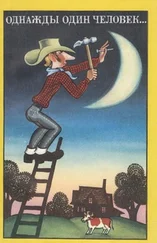— Нет, — сказал Тереза.
— Память о таком великолепном зрелище, — возгласил вдруг Осико Арджеванидзе, — никогда не затянется пепельно-серым покровом забвения.
— Вы все так считаете, харалетцы? — спросил Бучута, и потянувшись рукою, взял у меня свои часы.
— Да, да, все мы так считаем... Это несомненно...
— Стыд и позор вам... — раздосадованный Бучута повернулся к Папико. — Это с какими же такими людишками имел я дело...
Мы растерянно оглядывали друг друга.
Бучута потер пальцами лоб:
— Тут что-то другое нужно было, Папико, что-то другое!
И Папико смиренно подтвердил:
— Да, да... что-то другое.
— Ради чего пришел я и... с чем ухожу,— сокрушенно проговорил Бучута. — Как призадумаюсь теперь, пустомелей я вышел, и больше ничего.
— Эти кого не собьют с толку, батоно, — с грустью сказал ему в утешение Папико.
— Так что же мне было делать, — задумался Бучута, — говори я сложно, они бы ничего не поняли, а так я оказался болтуном. — Ээх, к черту! — И обратился к нам: — На секунду задержитесь, у меня к вам еще несколько слов.
Мы, затаив дыхание, притихли на ветках.
Бучута расхаживал взад-вперед по поляне и говорил.
Огорченный и подавленный, он обратился к нам с такими словами:
— О чем телько я с вами не толковал, чего только не затронул... и откуда же мне было знать, что все свои слова бросал я на ветер. Единственное утешение, что хоть один из вас меня понял, а впрочем, этот человек и без меня все прекрасно знал... О чем только не поведал я вам, харалетцы, о чем только с вами не рассуждал... Я наставлял вас внимательнее приглядываться ко всему окружающему, говорил, чему вы должны учиться у природы; я показал вам ваше тело, такое простое, такое обычное и такое поистине удивительное; мы беседовали об извечном постоянстве красок времен года, я много раз говорил вам о воздухе, воде, земле-кормилице... солнце... я назвал вам ваши недостатки... Там, ночью в лесу, где слова имеют большую цену, я открыл вам беспредельные возможности человеческого разума, и вы даже кое о чем призадумались, но с рассветом к вам снова вернулась ваша самоуверенность и вы так осмелели, что ты, Пармен, взялся меня высмеивать, по своему разумению. И в конце концов меня возвысило в ваших глазах только то, что я избил Терезу. Да-а, странно все это, странно... Неужто же я говорил хуже, чем дрался? Горе мне... — Он окинул нас взглядом. — Но вы, харалетцы, цените только нечто зримое, и вещественное — то, что можно пощупать руками; и более всего вас убеждает физическая победа, власть силы. Стыд и позор вам! О чем я вам ни говорил, чего ни рассказывал, и вот только теперь вы глядите на меня с истинным уважением. Но нет, не пропадут мои слова даром! Пусть вы и вовсе забудете обо мне, — а это так и будет, — тем не менее что-то все-таки сохранится, что-то, хоть самое малое, останется, что-то... всегда останется. А сейчас мне пора, — он окинул нас горестным взглядом. — Мне бы очень хотелось побеседовать с вами о том самом «потом», однако не в моих правилах оставаться там, где я поднял на кого-то руку...
— Но как вам все-таки удалось так исколошматить его, сударь? — восторженно спросил Пармен.
— Я же говорил, что у каждого из нас есть свой секрет. Стоит ли вновь повторять об этом, — нахмурился Бучута.
— Нет, нет, для чего... — выкрикнул Пармен.
— Ну, так пошли, харалетцы, — сказал Бучута, внимательно перебрав всех нас, воссиживающих на ветках, взглядом. — Бывай здоров, Георгий, не падай духом, будет еще и на твоей улице праздник. Ну, Папико, я на тебя надеюсь, никогда не сомневайся в себе, а если придется уж слишком трудно, хлебни иногда чуток, черт его побери совсем... Хотя чего я учу тебя уму-разуму, ты сам получше меня все знаешь, оказывается... Будьте здоровы и вы, Самсон. Я еще раз приношу вам свои извинения, но что я мог поделать... Будьте же здоровы.
— Сколько тебе лет? — послышалось вдруг.
Все оглянулись на голос — это сказал Тереза.
— Мне за тридцать, а что такое...
— А мне нет еще и двадцати шести, так что младшего ты осилил, верно, а, маленького?
Но Бучута, уже не слушая его, продолжал грустно:
— Будь здоров, Пармен... Славный ты все-таки человек. Вот прими это от меня, и вечерком, когда первая корова пройдет, мыча, по деревне, коли будешь трезв, погляди сквозь глазок на небо — и в одну сторону, и в другую, — что тебе терять, небось не велик труд...
Это была подзорная труба.
— Будь здоров и ты, мой Осико, и не сори ты уж слишком высокопарными фразами, не надо, дались они тебе...
Читать дальше