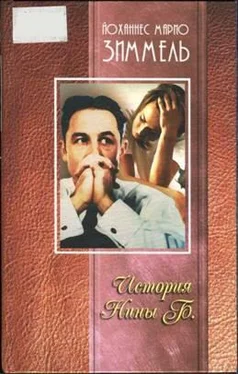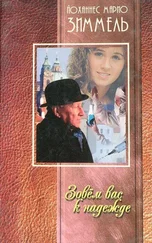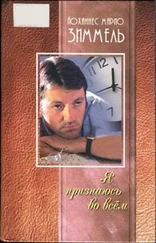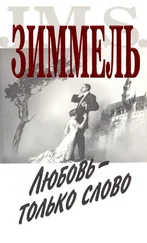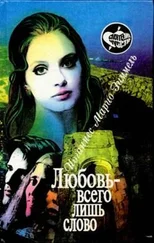Дорогой господин Хольден, я буду каждый день молиться за Вас, чтобы. Ваша невиновность подтвердилась и Вас освободили. Оставайтесь мужественными. Все проходит. Ваша очень несчастная, искренне Вам преданная
Эмилия Блехова.
Нине нельзя было мне писать, и мне нельзя было писать Нине, мне не дали даже тех жалких двух минут, которые когда-то здесь предоставляли Юлиусу Бруммеру. Сначала я должен сознаться, сказал доктор Лофтинг, сначала я должен сознаться. Пролетали недели, появилось солнце, в моей камере стало душно. В кабинете доктора Лофтинга по-прежнему было прохладно и темно, но, несмотря на это, в моей душной камере мне было лучше чем у него. Допросы приводили меня в ужас. Я мог говорить что угодно, но он качал головой и спрашивал: «Где вы достали яд? Кто вам его продал, господин Хольден?»
Чтобы не потерять рассудок, я обратился с ходатайством к тюремному руководству с просьбой вернуть мне мой дневник и разрешить мне его продолжить. Разрешение на это я получил. Теперь я писал дальше. Я писал — если меня не водили на допросы — ежедневно с девяти утра до полудня и вечерами с семи до половины десятого, пока не выключали свет. Становилось все более душно. В июле я писал, раздевшись догола. Я сидел, обливаясь потом. Иногда становилось прохладнее, но это было редко. Я писал и писал. Это было моим лечением этого безумного состояния, моей защитой от недоверия доктора Лофтинга.
Они не пустят ко мне Нину, не пустят, пока я не сознаюсь. За эти четыре месяца после моего ареста в Баден-Бадене я записал все, что вы прочли на этих страницах, господа доктор Лофтинг и комиссар Кельман. Время от времени вы их у меня забирали, а позже возвращали обратно. Для вас это было приятное чтение, господин комиссар и господин доктор.
За эти четыре месяца на меня надевали костюмы, которые лежали в дешевом фибровом чемодане, и устраивали очные ставки с Танкварт Пауль, миловидной билетершей из кинотеатра на Лютцовштрассе, и Гретой Лихт из Фонда Юлиуса Марии Бруммера для помощи слепым и инвалидам по зрению. Перед фройляйн Лихт я сидел в темных очках и с белой тростью. Одного за другим Лофтинг отыскал всех свидетелей. И все они меня узнали. В который раз доктор Лофтинг отправлял меня из своего прохладного кабинета назад, в мою душную камеру, и я продолжал писать дальше. В конце концов это было удачей в моих жалких обстоятельствах. Это меня утешало и помогало мне все эти месяцы.
Но они не разрешили мне видеть Нину и не разрешили Нине видеть меня.
Однажды я получил открытку. На ней был изображен цветной пейзаж на Гардазее, а на оборотной стороне корявым детским почерком было написано:
«Дорогой дядя Хольден!
Как ты наживаешь? Я паживаю хорошо. Мы здесь, в Дезенцано, жевем три недели. Я очень загарела. Тут мама и папа. Мы много купаимся. Очень жарка. Не сердись, что я с тобой была плахая. Мама мне все расказала. Это была ашипка. Много пацелуев шлет тибе твоя Микки».
А внизу стояло:
«Мысленно с Вами. Карла и Петер Ромберги».
Значит, они меня простили.
Значит, они тоже поверили, что я убил Юлиуса Марию Бруммера.
В августе началась тяжелая атака. Дважды в неделю меня вызывал доктор Лофтинг. Он задавал множество вопросов, смысла которых я не понимал. В августе он выглядел особенно неважно, да и я тоже. Когда меня водили стричься и бриться и была возможность посмотреть на себя в зеркало, мне каждый раз становилось дурно. Щеки ввалились, глаза померкли, волосы потускнели. Кожа стала грязносерой, губы — бескровными. Ежедневно я делал пробежку вокруг двора, глубоко дыша, поэтому и оставался здоровым — для слушания дела и для приговора. Они ничего не решали, эти часы на свободе, и я был рад, когда возвращался в камеру и мог продолжать писать.
Поначалу каждую ночь мне снилась Нина, и, когда потом я просыпался на тюремной койке, это была еще страшнее, чем допросы. Но в августе мне уже ничего не снилось, и если я не хотел спать, то только ждал, пока станет светло, чтобы продолжать писать.
В первый сентябрьский день мною овладело абсолютное спокойствие. Я решил покориться судьбе. Доктор Лофтинг был в некотором смысле прав, не веря мне и считая меня убийцей Бруммера. Потому что в известном смысле я действительно им был. Я принял решение убить Бруммера, не осуществив его. Замысел убийства так же ужасен, как и само деяние. Мне нельзя было остаться безнаказанным, я должен был за это поплатиться. И не только за замышляемое убийство Бруммера, нет, но главным образом за то, что первым, что мне всегда приходило в голову, когда я встречался с жизненными трудностями, казавшимися непреодолимыми, была идея насильственного действия. Находясь за решеткой, как я, человек это осознает. Я покушался на жизнь другого человека без сострадания, без раскаяния. Что может быть страшнее?
Читать дальше