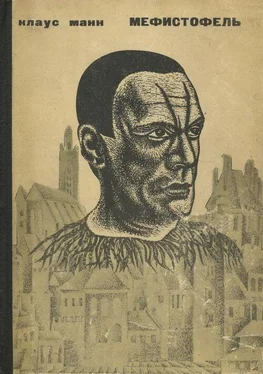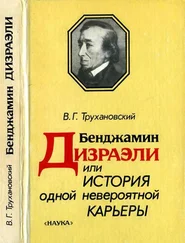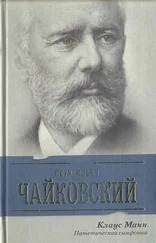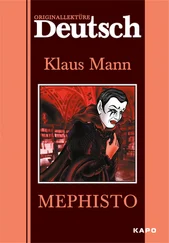– Ты не Гамлет! – уверял его уже из дальней дали чужой высокомерный голос.
Он не был Гамлетом. Но он сыграл его, навык ему не изменил.
– Великолепно! – говорили ему режиссер и коллеги то ли из-за отсутствия проницательности, то ли ради того, чтобы подольститься к директору. – Со времени великого Кайнца немецкий театр не знал такого исполнения.
Сам же он знал, что не передал ни смысла, ни тайны стихов. Его исполнение не выходило за пределы риторики. Так как он себя чувствовал неуверенно и по-настоящему не проник в образ Гамлета, ему приходилось экспериментировать. С нервозным напряжением он изобретал нюансы, маленькие неожиданные эффекты, но между ними не было внутренней связи. Он решил акцентировать мужские, энергичные черты датского принца.
– Гамлет не слабовольный человек, – объяснял он коллегам и режиссеру.
Он и в беседах с журналистами высказывался в том же духе.
– Менее всего он женствен, целые поколения актеров совершали ошибку, настаивая на его женственности. Его меланхолия – не пустой сплин, она имеет реальные причины. Принц прежде всего мстит за отца. Он человек эпохи Ренессанса, очень аристократичный, не лишенный цинизма. Для меня самое важное – освободить его от жалостливых, плаксивых черт, которыми наградило его традиционное толкование.
Режиссер, коллеги и журналисты находили все это новаторским, исключительно смелым, интересным. Беньямин Пельц, с которым Хефген вел долгие беседы о Гамлете, был в восторге от концепции Хендрика.
– Если вообще мы, современные люди, люди цинично активные, способны воспринимать датского принца, то только так, как чувствует и передает его ваш гений, – говорил Пельц.
Хендрик Хефген сделал из Гамлета прусского лейтенанта с неврастеническими чертами. Акценты, которыми он пытался прикрыть выхолощенность своей игры, были необузданны, резки, лишены чувства меры, крикливы. Он вытягивался, например, по стойке смирно, чтобы через миг с грохотом упасть в обморок. Вместо того чтобы жаловаться, сетовать, он кричал, бушевал. У него был пронзительный смех, он все время дергался. Глубокой и таинственной меланхолии, свойственной его Мефисто, той ненамеренной, несыгранной меланхолии, созданной по загадочным, им самим неосознанным законам, не было у Гамлета. Большие монологи он преподносил с образцовым уменьем. Но он их только «преподносил». В его жалобе:
О, если б ты, моя тугая плоть,
Могла растаять, сгинуть, испариться! [14]—
не было ни музыки, ни твердости, не было красоты, отчаяния; не чувствовалось того пережитого и выстраданного, что предшествовало этим словам, родило их, ни чувство, ни познание не облагораживали его речи; она оставалась кокетливой жалобой, в ней ясно звучало желание нравиться.
Тем не менее премьера «Гамлета» имела бурный успех. Для современной берлинской публики главным достоинством актера были не чистота и сила исполнительского мастерства, а близость с властью. Впрочем, вся постановка была рассчитана на то, чтобы произвести впечатление на сидевших в партере высоких военных чинов, кровожадных профессоров, а также на их не менее воинственно настроенных подруг. Режиссер грубо и демонстративно подчеркнул северный характер шекспировской трагедии. Действие происходило на фоне аляповатых, тяжелых декораций, скорее годных для создания фона к «Песне о Нибелунгах». На сцене, тонувшей в мрачных сумерках, все время бряцали мечи и раздавались хриплые крики. Посреди этих неотесанных типов Хендрик выделялся трагической напыщенностью и жеманством. Один раз он позволил себе такую выходку: в течение нескольких минут неподвижно сидел за столом и демонстрировал потрясенной публике только свои руки. Лицо оставалось в тени: руки, выкрашенные известково-белым цветом – и ярко освещенные прожекторами, – лежали на черной столешнице.
Директор выставлял свои некрасивые руки, словно некие драгоценности. То ли из озорства – чтобы посмотреть, как далеко можно позволить себе зайти, – то ли чтобы помучить самого себя. Ибо он сам тяжко страдал, выставляя напоказ свои широкие, вульгарные пальцы.
«Гамлет – это подлинно германская драма, – объявил доктор Ириг в своей предварительной рецензии, вдохновленной министерством пропаганды. – Датский принц – великий символ всего немецкого. В нем выражена часть нашей глубочайшей сущности. Гельдерлин говорил о нас:
Ибо вы – немцы и вы тоже
Бездеятельны и богаты мыслями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу