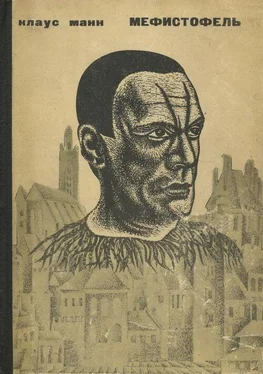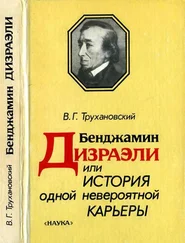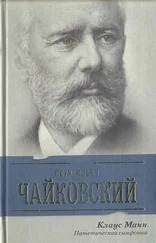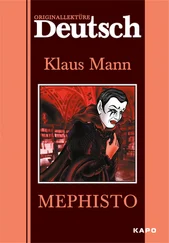– Я как-то уже дал вам хороший совет, – грозно сказал генерал авиации, – и я повторяю, хоть и не привык что-нибудь говорить дважды: не суйтесь вы в это дело!
Формула не нуждалась в разъяснении.
Хендрик с ужасом ощутил близость пропасти, по краю которой постоянно передвигался, куда жирный толстяк мог его спихнуть, как только ему вздумается. Премьер-министр стоял, опустив голову. На бычьем затылке вздулись три толстые складки. Маленькие глазки блестели, веки были воспалены, глазные белки покраснели, будто кровь, бросившаяся в голову гневного тирана, затуманила его взор.
– Дело нечистое, – добавил он еще. – Этот Ульрихс был замешан в грязные аферы, у него были все основания покончить самоубийством. Директор моих государственных театров не должен проявлять слишком большой интерес к государственному изменнику.
Слово «государственный изменник» генерал уже прорычал. Хендрику стало дурно, так близко он увидел пропасть. Чтобы не упасть, он схватился за ручку тяжелого кресла в стиле ренессанс. Когда он попросил разрешения удалиться, премьер-министр отпустил его неблагосклонным кивком.
Никто в театре не решался говорить о «самоубийстве» коллеги Ульрихса. Но какими-то таинственными, не поддающимися контролю путями все тем не менее узнали, каким образом он умер. Его не казнили, его замучили до смерти, пытаясь выведать у него имена его сообщников и друзей. Но он молчал. Злоба и разочарование гестаповцев не знали предела. В квартире Ульрихса не нашли никакого компрометирующего материала, никаких бумаг, ни одной заметки, ни одной записки с адресом. Потеряв надежду что-нибудь из него выудить, просто для того, чтобы наказать его за упрямство, они усилили пытки. Может быть, палачи и не получали определенного указания его убить. Он умер в их руках на третьем допросе. Тело стало кровавой неузнаваемой массой, и мать, жившая в провинции, помешавшаяся от горя при известии о самоубийстве, – эта бедная мать никогда бы не узнала заплывшее, растрескавшееся, разорванное, вымазанное гноем, кровью и калом лицо, которое было когда-то лицом ее сына.
– Ты принимаешь это так близко к сердцу? – спросила Николетта со странным холодным и словно бы даже насмешливым любопытством у своего супруга. – Тебя это волнует?
Хендрик не решился ответить на ее взгляд.
– Я так давно его знал, – сказал он тихо, будто извиняясь.
– Он понимал, чем рискует, – сказала Николетта. – Когда играешь, надо учитывать возможность проигрыша.
Хендрик, которому разговор был мучительно неприятен, пробормотал только:
– Бедный Отто! – чтобы хоть как-то прореагировать.
Она отрезала:
– Почему бедный? – И добавила: – Он умер за дело, которое казалось ему правильным. Может быть, ему надо завидовать.
И после паузы протянула мечтательно:
– Я хочу написать Мардеру. Рассказать ему о смерти Отто. Мардер восхищается людьми, ставящими на карту жизнь во имя идеи. Он любит упрямых. Он и сам способен из упрямства пожертвовать жизнью. Может быть, он найдет, что этот Ульрихс был настоящей личностью и обладал чувством дисциплины.
Хендрик сделал нетерпеливое движение рукой.
– Отто не был особенной личностью, – сказал он. – Он был просто человек – просто солдат великого дела…
Тут он умолк, и его бледное лицо слегка покраснело. Ему было стыдно своих слов. Ему было стыдно оттого, что он употребил слова, серьезность которых осознал глубже, чем когда-нибудь, – из-за смерти Отто. И так как в этот короткий миг он понял вес и достоинство этих слов, он почувствовал, что с его стороны было кощунством произносить такие слова. Он чувствовал, что эти серьезные слова в его устах звучали глумлением.
На похороны артиста Отто Ульрихса, который «добровольно ушел из жизни из боязни справедливого возмездия народного суда», никому не разрешили являться. Государство зарыло бы изуродованный труп, как зарывают дохлую собаку. Но мать умершего, набожная католичка, прислала деньги на гроб и на маленький надгробный памятник. В письме, неразборчивом из-за пролитых слез и пятен жира, она просила, чтобы ее дитя похоронили по христианскому обычаю. Церковь вынуждена была отказать: за телом самоубийцы не может следовать священник. Старая женщина молилась в своей нищенской каморке за погибшего сына.
– Он не верил в тебя, боже милостивый, и он был грешен. Но он был неплохой. Он шел по неправильному пути, но не по злому умыслу. Он считал этот путь правильным. А всякий путь ведет к тебе, боже милостивый, если по нему идет человек с добрым сердцем. Ты ведь простишь ему, ты ведь снимешь с него вечное проклятье. Ты проникаешь в сердца, святый боже, а сердце моего заблудшего сына было чисто.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу