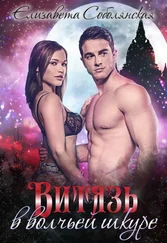— Нельзя вам из него смыться, — сказал Малетта. — Ведь в таком случае, как я уже говорил, все станет бессмысленным. Если одному из нас надо умереть, то умру я. Я и так уже все равно что мертвый. — Он пристально взглянул в глаза матроса и повторил: — Все равно что мертвый. Потому, что я ноль. Я повешенный, который болтается там, на дереве. У меня никогда недоставало силы быть человеком. А у вас эта сила есть, вы — человек. И пока вы живы, я страдал не напрасно. Ведь вы мое «я», мое утраченное, лучшее «я». Вы тот, кем я хотел стать.
Матрос недвижно стоял у стены.
— Если мне суждено быть вашим лучшим «я», — прошептал он, — то вы, вероятно, мое худшее «я», «я», которого мне надо страшиться. Выходит, что мы старые знакомые.
Малетта снова закрыл глаза.
— Я расскажу вам сон, — сказал он, — сон, приснившийся мне много лет назад, но с недавних пор я почему-то все время думаю о нем: я стоял на корабле (не знаю, как я туда попал), и человек, похожий на вас, высунул голову из грузового люка и сказал мне приблизительно следующее! «Поскольку ты не сумел стать мною, я должен стать тобой, твоим «я», иначе с моей гибелью все погибнет на нашей земле, но, если я и стану тобой, все равно все погибнет».
— А потом?
— Потом он закрыл над своей головой крышку люка, словно скрылся в иной жизни, а я был недостоин последовать туда за ним.
Теперь уже матрос закрыл глаза.
— Будет исполнено, господин капитан! — прошептал он, — будет исполнено! — И из темной глубины его жизни, спрятанной во многих темных сосудах жизни, которая тем не менее переросла его и вышла в просторы, синие, как море, чтобы слить воедино высоту и глубь неба и земли, из забытого безвременья, словно из иллюминатора затонувшего судна (сквозь зеленоватые массы воды и вуали водорослей), смотрели на него неумолимые глаза старика.
— Потому, что я ноль, — вторично пояснил Малетта. — Мучительное «О» перед самым концом, когда чувствуешь только боль и ничего другого, круглое отверстие, сформированное губами, дырка, через которую волк проникает в деревню. — С помощью большого и указательного пальцев левой руки он изобразил дырку и просунул в нее указательный палец правой. — Пробоина в корабельной обшивке, — улыбнувшись, добавил он. — Уже хлынула вода: я — это гибель, я — пустота. — Малетта быстро встал. — Мне надо зайти к парикмахеру, — сказал он. — Хорошо выбритое лицо и подстриженные волосы — это тоже важно. И охотничья шляпа — важно.
Он пошел к двери и надел шляпу. Матрос, тяжело ступая, двинулся за ним.
— Я должен пойти в деревню, в жандармерию, — сказал он. — Пойдемте вместе.
Малетта был уже во дворе.
— Мне за вами не поспеть, — сказал он. — Я был болен и еще плохо держусь на ногах. И потом — вы же знаете, — я приношу несчастье.
Матрос только рукой махнул. Запер дверь, сунул ключ в карман и, уже как из дальней дали, подал руку Малетте.
— Итак, — сказал он, — всего наилучшего!
Малетта стоял на ветру и смотрел ему вслед, смотрел, как быстро шагает он по луговой дороге, видел его широкую надежную спину, исчезающую внизу (среди просторов окружающей природы под необъятным сумрачным небом), и вдруг почувствовал дурноту, поднимавшуюся от ступней, словно земля разверзлась перед ним, разинула жадную свою пасть, чтобы поглотить его, и в это мгновенье в Тиши колокол прозвонил полдень.
Жандармская караульня. Неподалеку бьет полдень. Жандармская караульня! (Последний раз в этой истории) Хабихт в одиночестве сидит за своим письменным столом, и голова у него гудит не хуже соседнего колокола. Тем временем тринадцать жандармов идут по деревне (их ведет Шобер, и таким образом получается, что их четырнадцать). Они возвещают, что в деревне этой ночью будет объявлено чрезвычайное положение, но адской машины, которую они ищут, так и не находят. Удивительное дело, думает Хабихт. Дерутся, выбивают друг у друга последние остатки зубов, но не успеешь глазом моргнуть, как они опять неразлучные друзья, и никто уже не может допытаться у них, что, собственно, произошло. Под звуки победного марша он вошел в «Гроздь» и… глазам своим не поверил: клубок кряхтящих стариков, из которого торчало шестнадцать подбитых гвоздями башмаков, взад и вперед катался по полу среди осколков разбитых кружек. Франц Биндер стоял на другом краю поля битвы — с двумя спасенными в последнюю минуту кружками в руках — и безмолвно переводил растерянный взгляд с Хабихта на сумасшедший клубок, что бил вокруг себя шестнадцатью щупальцами, словно гигантская каракатица на дне моря. Маршевая музыка внезапно смолкла, слышалось только хриплое дыхание зобастого хуторянина. На полу валялся клубок, теперь так сведенный судорогой, что никто в нем уже не мог пошевелиться.
Читать дальше


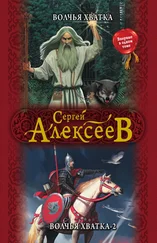


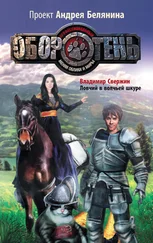



![Елизавета Соболянская - Витязь в волчей шкуре [СИ]](/books/385921/elizaveta-sobolyanskaya-vityaz-v-volchej-shkure-si-thumb.webp)
![Валерия Лютая - Русалка в волчьей шкуре [СИ]](/books/419171/valeriya-lyutaya-rusalka-v-volchej-shkure-si-thumb.webp)