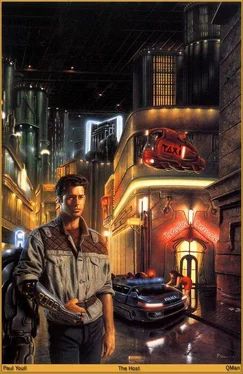Он запустил пластинку. Песня называлась «Когда в твоих руках тюльпан».
Эл, слушая ее, пытался понять, почему она звучит так неприятно. Сначала он подумал, что дело в громкости. Найт включил звук на полную силу, так что все в кабинете содрогалось и вибрировало. Но причина была не в этом: Эл часто сидел в барах, слушая орущие музыкальные автоматы, но никогда прежде подобного не испытывал, никогда прежде громкий звук не вызывал у него физической дурноты такого рода. Наконец он понял, что дело было в проникающем свойстве голосов. Это как–то воздействовало на ушную серу, из–за чего он чувствовал головокружение и неустойчивость. Даже когда песня закончилась, его организм оставался разлаженным; Эл вынужден был сидеть, уставившись в пол и воздерживаясь от каких–либо движений.
Этот звук проникал как чистая вибрация, чистое сотрясение воздуха. Это был звук, низведенный до числа, как говорил Найт, числа колебаний в секунду, звук, изначально исходивший от четырех деревенщин–вокалистов, которым удалось настроиться на абсолютно одинаковую высоту, — разброс укладывался в крошечный промежуток, — звук, усиленный затем с помощью всех современных электронных устройств, звуковых камер и всего такого прочего, так что в конце он, как есть неприятный, уже не имел отношения к тому, что сделали исполнители. От исходного звука можно было укрыться, но этот конечный продукт, осознал Эл, достанет человека через бетон, мешки с песком и сталь, в бомбоубежище и даже в могиле. Это было, как сказал Найт, естественным очередным достижением в области средств популярной музыки, которое, возможно, окажется последним достижением, окончательным. Прежде всего сама мелодия являлась несущественной; певцами выступали любители, вероятно, подобные самому Найту, — упитанные, оптимистичные, по три вечера в неделю посвящающие пению в «парикмахерском» стиле, закончив свой рабочий день и отужинав. И все они, конечно, жили в маленьких городках.
— Обертоны, — говорил между тем Найт. — Гармонические призвуки. Это то, чего изредка добивается Будапештский струнный квартет. Они работают на инструментах, имеющих лады. — Он выключил проигрыватель. — Слышал что–нибудь похожее?
— Нет, — сказал Эл.
— Не то что старый барбершоп, верно? Это тебе не братья Миллз. — Убирая пластинку, Найт повернулся к Элу: — Что ты об этом думаешь? — Он смотрел на Эла очень серьезно.
— Самая худшая дрянь, какую мне только доводилось слышать, — признался Эл.
Серьезное выражение лица Найта ни в малейшей мере не изменилось.
— Ты прав, — сказал он. — Ты выразился совершенно правильно. Но ты упускаешь главное. Это хорошо, потому что это так плохо. В то, что ты слышал, вложено много времени, таланта и искренности. Чтобы произвести такой звук, потребовалось много жестоких разочарований и пота. И это присутствует в звуке, ты можешь это расслышать. Такая штука появилась не случайно, это не отход производства при попытке сотворить нечто лучшее. Это не какой–то посредственный звук. Это звук, который ты запомнишь. Ты не сможешь выбросить его из головы. Он будет храниться там и через шесть, и через десять недель. Он производит впечатление. Посредственная вещь впечатления не производит и забывается сразу же, как отзвучит. Думаешь, ты сможешь забыть, как «Ученики Аристотеля» поют «Когда в твоих руках тюльпан»? Не обманывай себя. Ты этого не забудешь. А посему эта вещь гарантированно станет хитом. Своеобразие. У этого звука есть своеобразие. Когда «Ученики Аристотеля» исполняют «Когда в твоих руках тюльпан», ты знаешь, что это такое, и не спутаешь ни с чем другим. Да, этот звук плох. Он настолько плох, что это достижение, сопоставимое с Элом Джолсоном, или Джонни Рэем, или любым другим из выдающихся исполнителей. С сестрами Эндрюс.
— Понимаю, — сказал Эл.
— Понимаешь? — сказал Найт. — Ты вот сказал «худшая дрянь». Ты назвал «худшим» то, что войдет в сердца американцев по всей стране и станет частью их жизни. Таково твое понимание «худшего»? Нечто такое, что доставляет удовольствие и краткое избавление от тревог и страхов нашего времени, времени водородной бомбы? Ну и ну, Эл. Если это, по–твоему, «худшее», что же тогда ты назовешь «хорошим»? То, что усиливает эти страхи? То, что делает нашу жизнь чуть более невыносимой?
Последовало молчание.
— Эти парни, — сказал Найт, — «Ученики Аристотеля» — я знаю их лично, это мои добрые друзья — получили массу удовольствия, когда делали эту запись. Они не интеллектуалы. Они не учились в колледжах, не читали Канта. Это просто хорошие, простые, веселые парни, которые любят собираться по вечерам вместе и петь. А мы хотим распространить это их удовольствие, поделиться им со всеми остальными, штампуя пластинки с их обертонами. Таков наш бизнес. Вот для чего мы здесь. И вот для чего будешь здесь ты, если найдешь возможным принять наше предложение. Мы не пытаемся изменить мир. Мы не просветители и не реформаторы. Мы доставляем удовольствие, а не отдаем распоряжения. Это плохо?
Читать дальше