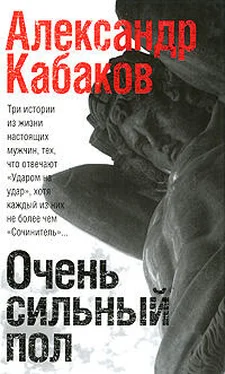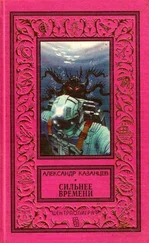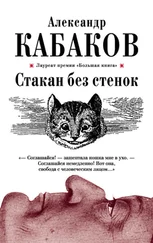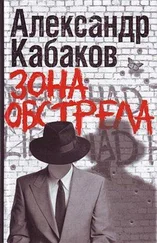А Вовка-вошка молчал как убитый, до самых каникул, а после каникул еще много всякого было, и Мишка сам почти забыл о даче и черных легковухах.
В сорок третьем же Вовку-вошку и вправду убили. Где-то на Украине, о чем Мишка, конечно, не узнал никогда, хотя и сам в это же время где-то в тех краях налетел на второе проникающее в бедро…
Тем все и кончилось. Да, вот еще что: дача сгорела – совсем недавно, в начале семидесятых.
За соседним столиком зазвенело стекло, Кристапович обернулся. По скатерти плыло рыжее коньячное пятно, погасшая настольная лампа лежала на боку, а рядом с ней таким же недвижимым предметом лежала голова, которую он узнал сразу же – будто не было десяти с лишним лет, и войны, и прочего всего, и будто не была эта голова наполовину седой, и не врезался в налившуюся пьяной кровью шею воротник дряхлого уже офицерского кителя, и будто не шумело вокруг знаменитое кафе, не подсаживались в углу к поэту с дьявольским профилем прихлебатели – кто теша душу, кто, наоборот, выпить задарма… Михаил встал, отогнал возникшее – школу в снегу, училку, нудным своим Базаровым усыпившую некрепкого на впечатления хозяйского сына, – и потащил Кольку вон, на слякотную улицу Горького, под гудки «побед», высаживавших на славном углу центровых ребят в полупальто с цигейковыми шалями и со сверкающими бриолином коками на непокрытых головах. Запихнул пьяного, разъезжающегося драными хромачами по грязи, в просторное и пыльное нутро «адмирала», вернулся расплатиться – и уже через полчаса гнал машину по едва видимому шоссе, наугад, туда, где жили они когда-то не так чтобы очень плохо, да очень горько…
Николай, конечно, проснулся в пять, стонал, тыкался по избе за водой, зажег десятилинейку, едва не разгрохав стекло, долго сидел за столом, отчаянно скребя белый волос под несвежей байковой рубахой-гейшей, дико пялился на Михаила. Разговор пошел только часа через полтора, когда удалось добыть в сельпо мутноватую «красную головку», – Кристапович с привычным удивлением смотрел, как похмеляются, его к этому никакой ректификат не привел, пока выдерживал что и сколько угодно без последствий.
– Встретились, – крутнул головой Колька, нетвердо поставил на столешницу стакан, отгрыз кусок от изогнувшейся черной корки, закурил, старательно жуя мундштук «казбечины». – Встретились, мать его в кожух…
Кристапович молча слушал, о себе рассказал коротко и снова слушал, курил Колькины папиросы – свои забыл в кафе, потом снова пошли в магазин – курево кончилось, да и водка тоже. Взяли того и другого, напугав старуху продавщицу в довоенной милицейской шинели зелеными с недосыпу и перепою рожами, вернулись и снова разговаривали – часов до трех дня, до хрипа. Уже почти засыпая, Михаил сказал:
– А я продавщицу узнал, Колька. Это ж нашего мильтона Криворотова жена, правильно?
– Точно! – изумился Колька. – Ну у тебя память! Ну, бля, мыслитель с Бейкер-стрит!.. Только не жена, вдова. Помер мильтон наш, взяли его перед самой войной, в мае, чего-то насчет немцев неуважительно звезданул, его и взяли, а он тут же в районе под следствием и помер… Дружки у него там оставались, следователи, наверное, дали в камеру-то наган – помереть…
Он поматерился еще минут с пятнадцать, допил бутылку и тяжело захрапел, привалившись к щелястой, с вываливающейся паклей бревенчатой стене, по которой тенями носились крупные черные тараканы. И, глядя на них, совсем других, чем городские рыжие, задремал и Кристапович. Сон его был обычным, к какому он уже давно привык, – ни на минуту не переставал во сне соображать, прикидывать, обдумывать – так спал все время на войне, может, благодаря такому сну и выжил, да и за последние годы работать во сне головой не отучился. К собственному удивлению, просыпался – если больше четырех часов подряд удавалось рвануть – вполне выспавшимся.
Сейчас было над чем подумать. К вечеру встречи с Колькой в жизни Михаила Кристаповича набралось предостаточно проблем. Капитан в запасе Кристапович, образование полное среднее, Красная Звезда и семь медалей, полковая разведка, последние три года работал по снабжению на стройке, что дурным сном росла на Смоленке. Зэки таскали отборный кирпич, пленные месили раствор под дурацкую свою петушиную песню, а он сидел в фанерной хилой конторке, крутил телефон, ругался с автобазой и цемзаводом и все яснее понимал, что так и всю жизнь просидеть можно, если не случится чего-нибудь такого, чего и случиться не может. И пройдет она, единственная жизнь, в этой или другой такой же будке, и все.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу