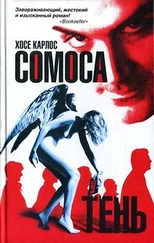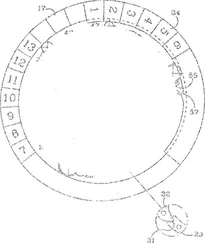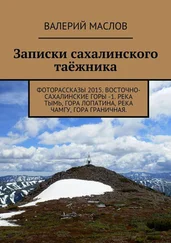Когда сплавщики спустились к реке работать, Негр, оставшись наедине с Американцем, мрачно сказал:
— Я хорошенько все обдумал. Ухожу.
Американец с удивлением посмотрел на него.
— Ты уходишь потому, что я тебя ударил? — начал было он. — Сам понимаешь…
— Нет, нет, — перебил его Негр, — напротив, я благодарен тебе. Возможно, ты спас мне жизнь… Я сказал много лишнего. Вот увидишь, скоро сюда явятся жандармы и станут разнюхивать.
Американец в двух словах передал ему, что произошло с Паулой в Сотондо — она накануне рассказала ему обо всем.
— Тем более, другого выхода у меня нет, — сказал Негр. — Если они явятся сюда, меня арестуют… Мне не следовало там говорить, но я не мог сдержаться. Давно уже не выступал, но в этом вся моя жизнь, Американец. У меня нет другой страсти.
— Я сразу понял это, дружище. Сразу было видно.
— Этому я посвятил свою жизнь. Еще парнем ушел из деревни, потому что не мог смириться. В городе я много читал. Ходил в народный дом и с той поры все занимался политикой. Но не так, как другие, по-своему. Для одних политика — это деньги и власть; для других — путь к карьере, к славе» к поклонению; некоторые просто сводят счеты с врагами. А я хотел вести за собой людей, убеждать их, воспламенять. На митингах я — истинный творец. Я никогда не был самым лучшим оратором, самым лучшим руководителем, и не слишком я умен, но никто не умел так увлекать за собой людей, как я. Я всегда знал, когда они готовы, а когда нет; когда надо ударить, когда польстить; когда нужна соленая шутка, а когда — брань, когда смех. Это искусство, Американец. Уверяю тебя, большое искусство. Оно не оставляет следа, не остается в веках, как картина. Зато оно остается в душах людей. Каждый митинг — это успех, и каждый раз я радовался, как господь бог, когда сотворил мир.
По мере того как он говорил, голос его звучал все вдохновенней.
— Бывало, собирают какой-нибудь митинг — социалистов, республиканцев, еще чей-нибудь. Мне все одно. Люди идут послушать речи о том, о чем сами говорят шепотом или в укромных уголках таверн, где их никто не подслушает. Приедем мы в какой-нибудь театр, или на арену для боя быков, или на площадь, а то и просто в корраль, поднимемся на подмостки. Стоило мне выйти… Пет, даже раньше, как только я приезжал в город, я уже чуял, чем пахнет: трудно будет или легко. А там, на подмостках, я уже твердо знал, как завладеть публикой. Я видел, как она отзывается на речи тех, кто выступал до меня, и не забывал следить за шпиками. И вот я начинал. Слегка прощупаю почву, где-то переборщу, где-то не договорю, а всегда находил нужные слова. Это получалось само собой. Они приходили ко мне, как вдохновение к художнику. Я сливался с народом. Со всеми: с восторженными и недоверчивыми, с соратниками и противниками. Я объединял всех воедино и сам был с ними. Митинг для меня был как божий храм, как церковь для священника. Иногда я говорил похуже, но успех был почти всегда. Я чувствовал себя богом: вот море голов, и по моей воле оно то бушует, то затихает… Да, я был богом бури… Прикажи я им убить, и они убили бы; прикажи поджечь — подожгли бы; прикажи одним селом пойти против всей Испании — пошли бы. Пусть бы это длилось несколько часов. Разве это важно? Когда на меня накатит, мне уже все равно.
Он немного успокоился.
— Как видишь, я никогда не искал выгоды для себя. Товарищи считали меня глупым. Я был орудием, я ничего не требовал, только выступал и а самых ответственных и опасных митингах. Чтобы одержать даже маленькую победу, я ехал в самый дальний, захудалый городишко. Меня всегда выпускали перед каким-нибудь важным руководителем, чтобы он использовал созданное мною настроение. Вначале кое-кто советовал мне сделать карьеру, не зарывать свой талант в землю. Карьера! Что такое титулы и почести, если ты умеешь вселить в людей страсть, заразить их своим пылом! Ведь официальная политика не что иное, как позорный фарс! Когда же, наконец, они поняли, что я не преследую, как они, корыстные, ничтожные цели, они решили, что я не достоин высокого поста на задворках их министерств… Да, им не дано было меня понять. Они не понимали, что я хочу лишь слить тысячи людей в единое существо, которое по моей воле станет то львом, то собакой, то засмеется, то разгневается, и пойдет, словно послушное судно, куда я повелю!.. Больше меня ничто не трогало. Я читал, чтобы говорить; изучал людей, чтобы говорить, и не было для меня лучшего зрелища, чем митинги, где я мог послушать других достойных ораторов, подметить их промахи, поучиться у них… Я слышал всех самых лучших. Многие потом прославились, другие так и не достигли славы — например, один пал от пули в Барселоне во время стычки с синдикалистами… А знаешь, кто был самым лучшим, хотя потом у него сдали нервы? Дон Мелкиадес. Какой был оратор! Однажды он выступал в зале, где даже его сторонники, уж не помню почему, были против него и хотели сорвать его выступление. Но стоило ему выйти на трибуну, вздохнуть и произнести одно-единственное слово, как все зааплодировали. Он только воскликнул: «Соратники!» Понимаешь, одно слово: «Соратники» — и оно тут же стало самым нужным в мире, в один миг превратило всех, даже врагов, в его единоверцев, и пророком стал он сам, Мелкиадес… Каждый раз, когда я вспоминаю, как он сказал: «Соратники!»…
Читать дальше