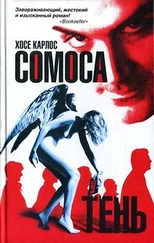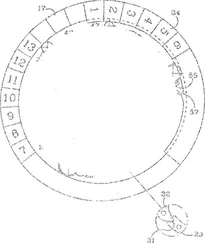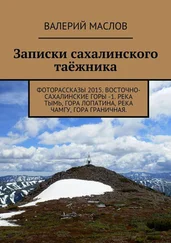Шеннон взял ее протянутую руку, проговорил, глядя на совсем еще детский рот Паулы:
— Я тоже никогда не забуду тебя, Паула. Никогда. И тоже не встречу больше такой женщины, как ты. Ведь в городах, в том мире, где я живу, таких, как ты, не бывает. Они все погрязли во лжи! А ты настоящая! Невинная и виновная, кроткая и отважная… Ты голубка, и ты убиваешь, Паула. Что еще тебе сказать? Ты женщина в полном смысле этого слова. Ты и сама не знаешь, кто ты больше: мать или возлюбленная.
Паула застыла в оцепенении.
— Не сердись. Уж такая ты есть. А я… я все еще люблю тебя, Паула, — заключил Шеннон едва слышно.
— Уже по-другому, Ройо, — прошептала Паула.
Воцарилась долгая, добрая тишина. Великая тишина, наполненная звуками, которые тоже навсегда останутся, в памяти: шелестом ветра в соснах, журчанием воды меж скал.
— А ведь хорошо было, правда? — спросила Паула, совсем как девчонка.
— Да, — признался Шеннон, — слишком хорошо. Ты не могла стать моей. Я тебя недостоин.
Оп приник к ее руке долгим поцелуем. К руке, созданной для ледяной воды и горячей любви; к руке, прятавшей наваху на теплой груди.
— Паула… — произнес он, растягивая каждый слог, — никогда не забуду этого имени.
— А ведь оно не мое. Когда я пришла к сплавщикам, я решила, чтобы меня не нашли, назваться именем моей родственницы, которая давно умерла. Никто не знает моего настоящего имени… Даже Антонио, — проговорила она тихо. И еще тише добавила: — Меня зовут Беатрисой.
— Беатриса! Беатриче! — обрадовался Шеннон. «Имя провожатой в раю, — подумал он, — И еще имя скромной служанки, которая в одном из диалогов Луиса Вивеса{Вивес, Хуан Луис (1492–1540) — испанский гуманист и философ.} отвечает молодому сеньорито, когда тот называл ее уродкой: «Зови меня как хочешь, только не уродкой». Но Шеннон не поддался обаянию этого имени.
— Я рад, — сказал он. — Ведь когда вы дойдете до места, а потом вернетесь, и ты выйдешь замуж… Да, да… Ты будешь для всех Беатрисой. Паулу забудут все, кроме меня. Для меня ты всегда останешься Паулой… Только для меня одного и навсегда! Как и я всегда буду для тебя Ройо, потому что это тоже не мое имя.
— Да, ты останешься моим Ройо.
Они замолчали. Паула встала. У обоих на глаза навернулись слезы.
— Прощай, Ройо. Спасибо за все.
— Прощай, Паула. Спасибо за то, что ты настоящая.
Оп смотрел, как она вышла; услышал, как она спускается по лестнице. Закрыл глаза и представил себе, как она идет по тропе среди сосен легкой, такой естественной походкой. Ему было жаль своих воспоминаний, жаль прошлого. А настоящего? Если бы она еще хотела сказать «да»?.. И все же этот разговор оставил в его душе совсем иной след, совсем иное чувство, нежели их прежние встречи.
Открыв глаза, он вздрогнул: она еще здесь!.. Нет, это Сесилия.
— Простите меня, — сказала девушка, краснея, — я ire хотела заходить раньше, а теперь пришла узнать, не надо ли вам чего… Уже пора завтракать.
Шеннон, все еще взволнованный, не сразу ее понял. И она это истолковала по-своему.
— Не огорчайтесь, — улыбнулась Сесилия, но голос был грустный. — Вы еще увидитесь… Она очень красивая, ваша Надежда! — призналась она почти со вздохом.
— Кто?.. О нет! Ее зовут Паула. А почему вы так сказали?
Девушка смутилась.
— Потому что в ту ночь… Помните, я не посмела вам рассказать, когда дедушка просил.
— Но что?
— Тогда в бреду… Вы все время повторяли: «Надежда, Надежда…» Ну, я и подумала… Простите, ведь я такая глупая.
— Успокойтесь, Сесилия… Я имел в виду другое. А се зовут Паулой, и она вовсе не моя.
Шеннон с удивлением обнаружил, что девушка поторопилась выйти, чтобы он не видел, как раскраснелись ее щеки.
Проходили дни, лес продолжал свой путь. Шеннон видел его с галереи, где сидел, положив ногу на стул: он ужо мог передвигаться без посторонней помощи, не причиняя себе боли. Сплавщики приветствовали его с реки, и Шеннон ощущал, какой напряженной жизнью живет дом у соляных разработок, казавшийся спокойным и уединенным. А разве все сущее на свете не исполнено того же напряженного стремления жить! И в первом крике петуха, и в последнем вздохе филина, который каждую ночь усаживался на дереве у его окна, — в каждом звуке, в каждом движении сосредоточивалась и билась жизнь, как в крохотной Вселенной… Будь то скрюченный ревматизмом старик, или плачущий ребенок, растиравший ушибленную коленку, или же белая ослица, с которой сняли сбрую и которая с наслаждением каталась в пыли… В коночном счете все одинаково ценно, во всем является безграничная, вечная жизнь. Та самая, что бьется в ого ноге, зарубцовывая сломанную кость, в которой, молекула за молекулой, скапливается известь, точно сталактиты в пещерах матери-земли.
Читать дальше