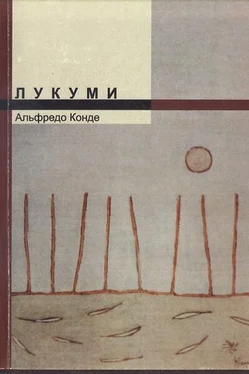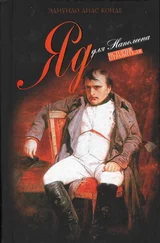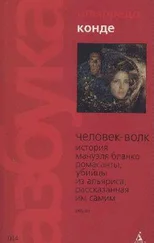Приблизительно в те же дни моего детства, о которых я только что вспоминал, один неосторожный учитель, который не откликнулся надлежащим образом на мои настойчивые просьбы о защите, постоянно игнорируя их, так что можно было даже подумать, что ему доставляет удовольствие наблюдать мою беззащитность и жестокое поведение моих одноклассников, дерзнул как-то привести нам цитату из Аристотеля.
— Реальность — это то, что думает большинство, — сказал, по его словам, философ.
И затем добавил с некоторым ехидством, которого, судя по всему, никто, кроме меня не заметил: чем большее количество людей будут думать, что мы живем в лучшем из возможных миров, тем реальней и благотворней будет Революция.
— Вот так-то. И говоря словами Че, — добавил он, — Революция — штука озорная и умопомрачительная. Наслаждайтесь ею, у вас для этого не так уж много времени. И это лучшее, что я могу вам посоветовать.
Большинство из моих маленьких товарищей, возможно, не поняли его тонкого юмора, скрытого патриотизма, иронии, сквозившей в тот день в словах сего простодушного наставника, охваченного, возможно, самым обычным тщеславием. Он хотел дать нам понять, что умен. Но, использовав фразу Аристотеля в таком контексте, он продемонстрировал обратное.
Мой патриотизм в те времена был полным и всепоглощающим, я унаследовал его от своего дяди, телохранителя Фиделя, и его благодарной матери; то есть от сестры моей бабки-жрицы. И у меня был, как я уже говорил, светлый ум. Патриотизм и ум составляли суперпродуктивное сочетание, ибо оно способствовало двум вещам: одна из них сослужила добрую службу мне, а вторая подложила свинью учителю, сейчас вы узнаете, каким образом.
Впрочем, если быть кратким и говорить напрямую, то же самое, что пошло во вред ему, одновременно сослужило добрую службу мне. Причиной всему было невинное замечание, своевременно вырвавшееся у меня в присутствии моего дяди, который в чисто профессиональных целях схватывал на лету все слухи и тут же стремился установить источник их происхождения.
— Представляешь, по словам товарища учителя, — сказал я ему, — революция умопомрачительна; но если это так, то я не понимаю…
Этого незначительного вырвавшегося у меня намека оказалось достаточно, чтобы мой дядя насторожился. Мой дядя был гориллой, немного лисом, но никак не благородным орлом, а посему мое замечание, то есть воспроизведение того, что мой не слишком любимый учитель высказал со ссылкой на Аристотеля по поводу Революции, было тут же передано высокому компетентному лицу, которое тотчас же передало сию информацию высоким партийным чинам и с тех пор стало высоко ценить мои скороспелые суждения. Вот что сказал ему мой дядя:
— Ты представляешь, мой племянник, который все обо всем знает, сообщил мне, что его несчастный учитель сказал по поводу Революции…
— Да что ты такое говоришь, негритос! — вроде бы ответили ему, быстро осознав, что сегодня они на славу отработали свой хлеб.
И вот с того дня настало время проблем для моего преподавателя и удачи для меня. Немедленно были затребованы сведения о моей успеваемости, и поскольку она была отличная, мои покровители решили, что ввиду хороших, даже отличных результатов, которые я демонстрировал в учебе, а также проявляемых мною разумности и благонамеренности, для меня следует создать условия, которые позволили бы мне в дальнейшем стать одним из выдающихся членов партии.
Да, я был черным, но не совсем, скорее светлым мулатом, и кому-то мог даже показаться красивым, ибо обладал своеобразным обаянием, которое крылось в едва заметной хромоте, напоминавшей величественную походку Роберта Митчума, Джона Вейна или даже Клинта Иствуда; при этом у меня был светлый ум, и все это казалось достаточным основанием для положительного рассмотрения моей кандидатуры на будущие высокие посты.
Эти люди, как и Святая Мать Церковь, не допускали появления среди своих служителей калек и уродов; но дело в том, что по-настоящему я не только не был хромым, но еще и обладал определенным шармом, а если представить меня хорошо одетым, чистым и ухоженным, то шарма становилось значительно больше.
Но даже если бы это было и не так, все знали, что я — племянник своего дяди, а, следовательно, сын его сестры, стройной негритянки лукуми, что по вечерам танцевала в раю под звездам. На его матери, сестре моей бабки, которая зачала его от отца одного из отцов отечества, внимание не заострялось.
Читать дальше