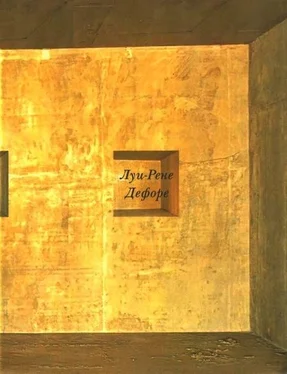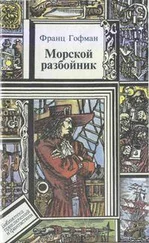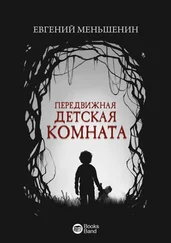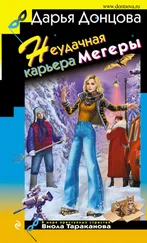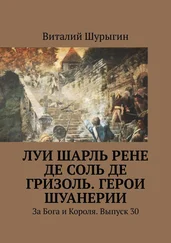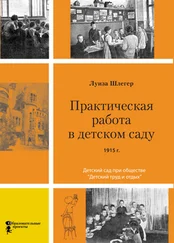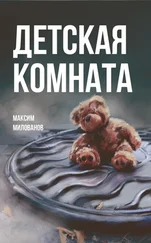Бонфуа специально подчеркивает, что ситуация, в большей или меньшей степени просматривающаяся во всех произведениях Дефоре, — детский надлом, воспоминание о материнском даре любви, рождающее чувства ностальгии и нехватки, — далеко не тождественна предмету, который изучает психоанализ, т. е. отношениям влечения, проникнутым глухим соперничеством с отцом и, главное, характерным еще для довербальной стадии развития [33] Интересно, что Мольери, которому предстоит совершить настоящий подвиг любви (по Бонфуа, любви-агапе), сменяет на сцене «венского певца» (в чем можно усмотреть намек если не на самого Фрейда, то на психоанализ в целом), да еще и в момент его высшего успеха, когда тот «превзошел самого себя и чистотой пения, и силой актерской игры», хотя и «с тягостным правдоподобием изображал человека, которому отуманили голову вино и чувственные наслаждения», т. е. подчеркивал сексуальный аспект роли. Так что и Дефоре, вероятно, отмежевывается здесь от психоаналитических концепций. Впрочем, нельзя забывать, что описываемая им «венская» трактовка была «во многих отношениях близкой к той, которую вскоре изберет» сам Мольери: здесь, возможно, приоткрывается механизм интеграции чуждой поэтики в собственное творчество с целью ее снятия и преодоления, который Дефоре использует на другом уровне в собственных произведениях и о котором мы будем говорить ниже.
; он имеет в виду, напротив, тот момент, когда ребенок уже осваивает язык, когда слова начинают заслонять вещи и позволяют составлять из частных, вычленяемых аспектов мира мечту, этот мир подменяющую, — отсюда замыкание в миражах, одиночество, разрыв с другими и в конечном счете с самим собой. Мать способна избавить ребенка от этих миражей, и она собственным примером должна показать, что можно не привязываться к видимостям, что можно, пренебрегая этими видимостями, любить кого-то, даже если его скрытая суть еще не прояснилась, — иначе говоря, разрушая фантазмы «эдиповой» ситуации, вдохнуть в ребенка доверие к самому себе. Но для этого она сама прежде должна, избегая грез о любимом детище, становящихся формами ее собственного нарциссизма, любить его такой любовью, которая направлена непосредственно на него, а не на ее мечту. Только мать, прошедшая этот внутренний искус, может быть для ребенка настоящей воспитательницей, обучать его языку, в котором не до конца умерла интуиция Единого. А это крайне трудно, потому что в современной культуре язык принципиально изменил свою функцию: в нем более не видят отпечатка божественного присутствия, которое в прошлом ограничивало значение любых мечтаний; теперь коллективное знание простых вещей, характерное для мифологической картины мира, заменено логико-понятийным, дробящим и неизбежно обедняющим подходом к реальности. Наш век — это век слов и химер, порождаемых словами, век вымысла. И мать, растящая ребенка, находится теперь в парадоксальном состоянии: в ней оживает напряженное ощущение того, что когда-то было верой, но уже в отсутствие самой веры. Ей нужно помнить о Едином в тот самый момент, когда слова его разрушают, одновременно находиться во власти грез, внушаемых словами, и преодолевать эти грезы.
Как следствие, и писатель в наше время не может закрывать глаза на это фундаментальное изменение, либо смиряясь с ним и прибегая к поэтике, опирающейся на децентрированное, многозначное письмо, либо пытаясь найти выход из сложившегося положения. В фигуре матери Бонфуа видит отсвет «собирающей, воссоединяющей Исиды»: эта фигура, по его мнению, так или иначе присутствует в сочинениях писателей, причисляемых им условно к «египетскому» (в отличие от «эдипова») перечню — отНовалиса до Нерваля, от Гёте до Бодлера, от Вордсворта до Рембо, Жарри, Пруста, сюрреалистов, — во многом совпадающему с перечнем творцов и обновителей современной поэтической мысли, к которым он относит и Дефоре. Неудивительно, пишет он, что сквозь поток образов, созданных этим автором, проглядывает «та, кто взвешивает на своих весах видимость и суть» [34].
* * *
Дальнейшие исследования творчества Дефоре в основном определялись руслом, проложенным работами Бланшо и Бонфуа. Развивая их выводы, критики особенно часто писали о коллизии языка и детства , которая наличествует во всех произведениях этого автора.
Едва ли нужно доказывать, что продумывание или, точнее, экспериментальное ощупывание, «разыгрывание» отношений говорящего и пишущего человека с языком, — основная пружина смыслового механизма текстов Дефоре, хотя ее ход не всегда заметен. Сам писатель высказался на этот счет совершенно недвусмысленно, назвав литературу деятельностью, которую невозможно осуществлять «без оглядки на ее собственные средства» [35]. Вне всякого сомненья, такая оглядка имела для Дефоре первостепенное значение, и он это ясно сознавал: «Меня всегда поражало то, как я раздваиваюсь во время работы: в этот момент я выступаю как собственный читатель, постоянно держащий в узде сидящего во мне автора. Думаю, это происходит со многими пишущими: каждый из нас является одновременно и тем, и другим членом этой пары. Всякому писателю, как и всякому читателю, если только любовь к искусству соединяется в них с глубоким недоверием к приемам искусства, знакома эта двойственность: порыв вдохновения, с одной стороны, критический взгляд, с другой. Я бы сказал, что писание — это действие, совершаемое во мне кем-то, кто говорит в расчете на того, кто, находясь внутри меня же, слушает. Однако для этих двоих, каждый из которых радикально исключает другого, в то же время полностью исключена и возможность быть причастным к моему личному „я“: потому-то „я“, выражающее эту двойственность, и может быть только „я“, утратившим себя, а его язык — лишь изобличать двусмысленные отношения между непримиримыми членами пары. В тех моих рассказах, что выстраиваются вокруг этой стержневой темы, дано в гиперболизированной форме описание бешеной попытки человека восстановить свое утраченное единство: поединок, который он безуспешно ведет с самим собой в надежде отыскать точку равновесия, находит выражение в двоящемся монологе, где голос рассказчика временами сменяется, как кажется, голосом его антагониста» [36].
Читать дальше