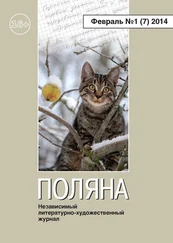То, что он упомянул в конце, по-моему, называется генетическим русским страхом. Он воспитывался долгими столетиями, наверно, с Ивана Грозного, или даже раньше. Страх, который рождается и умирает с нами. Советская власть лишь укрепила его, сделала стержнем нашей жизни. Кто свободен от него? Кто признается себе, что лишен этого чувства? А насчет Сталина… Поздно и бесполезно было переубеждать Ивана Алексеевича в том, что касалось взаимоотношений его кумира и человека, носившего фамилию Берия.
Это был мой последний разговор с Иваном Алексеевичем.
Я смотрел в окно. Что за время года там, на улице? Никаких примет осени. Пыльный асфальт. Дом напротив, придавленный чернотой ночи. И лишь одно окно горит, прилежно, терпеливо. Что там? Беда? Радость? Привычная бессонница? Спешные ночные дела? Какая разница. Я возвращаюсь за стол. Опять передо мной Сталин. Машет. Кому? Что он думал в тот момент, когда его фотографировали?.. Вспомнилось, как много лет назад Колька спросил Ивана Алексеевича: «Папа, а ты видел Сталина вблизи?» «Много раз», — ответил Иван Алексеевич. «Правда, что у него все лицо в щербинках?» «С чего ты взял? Никаких щербинок. Самое нормальное лицо». И я вдруг понял, только сейчас, что он тогда не обманывал — так он видел Отца народов. Без малейшего изъяна. И таким ему Сталин казался до последнего дня. И еще вспомнилось — хмурая, целеустремленная, неостановимая река. Она упрямо ползет меж красивых и равнодушных зданий. Я возвышаюсь над ее живой поверхностью. Я на плечах отца. Поворачиваю голову назад. И вижу лица. Много лиц. Каких-то невесомых. Одинаковых — будто нет ни мужчин, ни женщин, ни старых, ни молодых, ни веселых, ни злых. И я чувствую то, что чувствует каждый здесь, на этой улице, в этот страшный мартовский день: жизнь остановилась. Нам не осилить это горе… Втиснутый в маленькое пространство фотографии, поднявший руку, — может, для удара? — продолжал надо мной нависать товарищ Сталин. А рядом выжидающе стоял похожий на упрямого бычка Молотов. И снова пришли на ум незатейливые, пронзительные слова Иоанна Богослова: «Дети! Храните себя от идолов».
Дверь открылась, и в комнату мягким шагом вошла Тамара. Внимательно посмотрев на Кольку, она произнесла с преувеличенной озабоченностью: «Ребята, у вас закуска кончилась. Сказали бы. Что ж вы так?» Если бы не поминки, она бы не позволила Кольке пить еще. Терпеть не может, когда он перебирает. «Митя, помоги мне, пожалуйста», — сказала она, и я сразу поднялся. Оба стола в кухне были загромождены посудой. Действовало маленькое предприятие по отмыванию и вытиранию тарелок, чашек, вилок, ножей. Славно журчала вода в раковине. Мария Алексеевна бойко орудовала тряпкой. Света заученно водила полотенцем по тарелке. Лицо у нее было скучное — какое еще оно может быть у шестнадцатилетнего человека, делающего среди ночи подобную работу? «Не давал бы ты больше пить Николаю, — сказала Тамара, протягивая мне блюдо с заливным мясом. — Хватит ему. И поесть вам надо. Тебе тоже». «Ладно, позабочусь о твоем муже. Как сказал апостол Павел: „Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других“». «Опять цитата из Библии?» «Да. Мудрая книга. В ней ответы на все вопросы. А что?» «Ничего. Вот тебе салат, и иди».
Я никогда не говорил Кольке, что верю в Бога. Сам он не верил, считал это величайшей глупостью. Верующей была моя мать. Я узнал об этом в шестом классе. И был поражен — моя мать, и такое мракобесие. Потом привык. Она не старалась воспитать меня религиозным человеком. В церковь мать начала ходить в сорок четвертом, когда в Польше пропал без вести отец. Так поступали многие женщины. Тайком, чтобы никто не узнал. Но верующей стала после того, как в канун Победы отыскался в далеком сибирском городке отец, попавший туда после очень тяжелого ранения. Она была убеждена, что только ее молитвы спасли отца. А он смеялся, когда слышал об этом. «Что ты себе в голову вбила? Врачи меня вытащили с того света. Врачи. И поменьше ты про Бога». Мать с ним не спорила. Только смотрела на него прощающими глазами. А Библию она прятала. В комоде за подшивками журналов. Но я все равно ее нашел. Еще когда в школе учился. Книга была старая, дореволюционного издания. От бабки осталась. Тогда я ее начал читать.
Когда я думал о Боге, мне всегда казалось, что для Него важнее, чтобы человек следовал его заповедям, чем чтобы верил в Него. В самом деле, что толку, если человек верит, но нарушает заповеди: крадет, обманывает, убивает? Или ведет праведную жизнь из страха перед Ним? Но если человек следует заповедям, не веря в Бога, он делает это как бы не за грядущую награду, ибо не верит в вечную жизнь. Разве не велик человек, по-настоящему достойный этого звания не из страха перед Богом, не из знания, что за каждый грех придется платить? Потому и кажется мне, что следование заповедям, даже стихийное, важнее веры. А страх — не то, что Бог хочет видеть в людях. Так думал и продолжаю думать. Но мать не желала слушать меня — как это, не верить в Бога, хотя и следовать заветам? Грех. Не верить — грех. И священник, с которым я однажды беседовал в церкви, помявшись, сказал: «То, что вы говорите, имеет свою логику. Но главное — верить в Бога».
Читать дальше