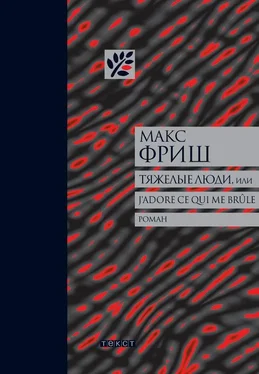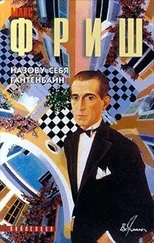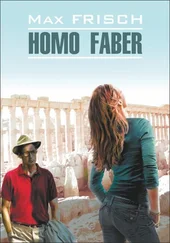Райнхарт, почти один на палубе, стоял у поручня, опираясь на локти и глядя в треугольник, сложившийся из его рук. В глубокой задумчивости он следил за падением собственной слюны, летевшей вниз вдоль высокого борта и каждый раз, ударяясь о зеленую воду, хотя бы на мгновение оставлявшей крошечную жемчужинку. Так он смотрел на эти исчезавшие жемчужины и вдруг обернулся — то ли от легкого вскрика, то ли почувствовав что-то. Он подхватил Ивонну и донес до ближайшего шезлонга. Она показалась ему невероятно маленькой и хрупкой и вместе с тем очень тяжелой от обморочного бессилия, невероятно тяжелой… Устроив ее в шезлонге, он задвинул его в тень подвешенной спасательной шлюпки, словно под балдахин, и постоял некоторое время рядом в нерешительности. Он был убежден, что это настоящий обморок, и тем не менее в голове его роились странные, несколько издевательские, почти злобные мысли. Веки Ивонны были опущены, она дышала широко раскрытым ртом. Руки, упавшие с подлокотников, свисали почти до самой палубы. Кисти напоминали летучих мышей, сама она, беспомощная, выглядела смешной, словно марионетка, у которой перерезали ниточки. От жалости к этой комичности Райнхарт поднял ее руки, сложил на животе и снова застыл, не зная, что делать. Новая поза тоже выглядела комичной — теперь получалось, будто она прикрывает свое лоно от синего неба, пытается его защитить. Это выглядело так, будто Ивонну мучили боли. А он уже не осмеливался трогать ее руки. Где-то снова звякнула цепь, нарушив удушливую тишину…
Должно быть прошло какое-то время, ибо, когда Ивонна пришла в себя и поняла, что случилось, корабль уже вновь шел полным ходом, белые, словно кости, скалы проплывали мимо, поднялся ветер, плескалась вода, издали доносился шум прибоя, в воздухе кружили чайки. Райнхарт сидел на поручне, руки в карманах; он курил трубку, и ветер раз за разом срывал с нее клок дыма, образуя вереницу облачков.
— Знаете, — спросил он со смехом, — как вы выглядели?
— Как старуха!
Он имел в виду совсем не то.
— Турандот, — проговорил он и вынул изо рта трубку. — Знаете, кто это такая? Я как-то видел рисунок тушью, несколько штрихов кистью, но это было великолепно. Вот как вы выглядели!
— Ах!
— Это, насколько помню, китайская история, сказка про юную принцессу, предлагавшую всем мужчинам три загадки, а кто не разгадает — голову с плеч, голову с плеч…
И так, выбивая трубку о каблук и разбирая ее, Райнхарт рассказывал, где он за это время побывал, рассказывал о ночах под открытым небом, об овчарках греческих пастухов и сербских монастырях, о таможенниках, которых он обвел вокруг пальца. Дело шло к вечеру. Ивонна чувствовала себя лучше, по крайней мере, временами. Море, проплывавшие мимо берега и острова были великолепны, легкий ветер, чайки над вспененным следом за кормой, заходящее солнце над рифами… Боже, думала Ивонна, не своди меня с этим человеком! И это лицо не могло от нее ничего утаить. До чего же он еще юн! Словно дыхание омытой дождем летней зелени окутало ее, хотя перед глазами была лишь вода за бортом, а молодой человек рассказывал, когда ей уже стало получше, о секретах хождения под парусом. Неужели такое бывает! Под темными переливами морских волн проблескивала зелень — словно висячие сады; Ивонну охватило сильное и острое чувство молодости, внезапное, как мартовское утро: все возможно, ничто еще не завершено, детские страхи исчезли, словно спала пелена, и вот ты стоишь в белом платьице на лугу, свободная от всего, а высоко в утренней синеве, над еще голыми ветвями плывут облака…
Хинкельман и в самом деле покончил с собой, тридцати пяти лет от роду, так и не поняв при всей своей немалой, но совершенно на другом отточенной проницательности, что же, собственно, с ним приключилось.
Когда Ивонна перестала пускать его к себе, он уехал в Германию, но родительский пасторский дом показался ему невыносимым; он увидел, что его комната оклеена детскими обоями, а даты на рисунках проставлены им малюсенькими цифрами (свидетельство скромности), но с угнетающей добросовестностью, и, хотя Хинкельман не мог понять, что же в этом, собственно, плохого, стоило ему только об этом подумать, как все становилось отвратительным. Да еще мать, то и дело проводившая рукой по лбу, будто хотела поправить упавшие волосы, — больше всего раздражала она. Естественно, Хинкельман уже написал им о ребенке, теперь уже ничего нельзя было скрыть, и, уж во всяком случае, он не мог сказать, что Ивонна, его жена, лежит в клинике, чтобы избавиться от плода. Отец, с твердой надеждой ожидавший наследника, разговаривал все больше о раскопках и тому подобных вещах. Неожиданно, сославшись на необходимость встречи с коллегой — а коллеги в его профессии были немногочисленны и рассеяны по всей земле, — Хинкельман уже на следующий день отправился обратно в Швейцарию, где должна была находиться Ивонна.
Читать дальше